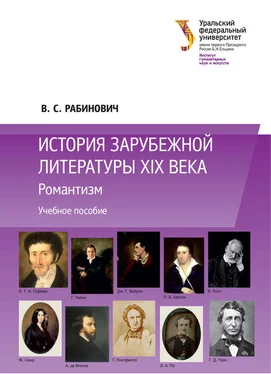Американской цивилизации, в силу ее исторически сложившейся «рукотворности», изначально был присущ дух поиска. В XIX веке Америка еще напряженно искала себя, и, наряду с выработкой фундаментальных основ собственного мироустройства, она осваивала и «параллельные», «альтернативные» пространства, разрабатывала возможные альтернативы собственному мироустройству.
Так, в Бостоне в 1836 году возник философский кружок трансценденталистов, в который, в частности, входили философ Ральф Уолдо Эмерсон, а также его ученик, мыслитель и писатель Генри Торо. В этом кружке разрабатывались принципы «правильной жизни» без оглядки на сложившиеся стереотипы. Буржуазные ценности, с точки зрения трасценденталистов, условны и относительны; главная ценность – человек, равный всем другим людям перед лицом Бога. Примечательно, что Ч. Диккенс после своего знакомства с трансценденталистами отметил, что если бы он жил в Бостоне, то примкнул бы к ним.
Один из трансценденталистов, Генри Торо (1817–1862), предпринял своеобразный «опыт правильной жизни» в 1840-е годы, прожив свыше двух лет в практически полной изоляции от цивилизации, в лесу, на берегу Уолденского пруда, на клочке земли, принадлежащем Эмерсону. Этот опыт воплотился в книге Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854). Наряду с подробными дневниковыми описаниями жизни в необитаемом пространстве, вызывающими ассоциации с «Приключениями Робинзона Крузо» Д. Дефо, обилием пейзажных зарисовок и др. в книге Торо присутствует обоснование предпринятого им опыта. Фактически «Уолден…» – это еще и социально-философское исследование об обществе и путях его реального и возможного развития. Торо подвергает уничтожающей критике сами фундаментальные экономические основы современной Торо цивилизации, во многом базирующиеся на постоянной эскалации производства и потребления.
С точки зрения Торо, ценность человека в собственных глазах и в глазах окружающих при этом сводится к его стоимости на рынке труда, в оплату чрезмерного потребления приносится чрезмерный труд (либо эксплуатация чужого труда), отношения между людьми формализуются и «прагматизируются», а сам человек утрачивает индивидуальность: «У рабочего нет досуга, чтобы соблюсти в себе человека, он не может позволить себе человеческих отношений с людьми, это обесценит его на рынке труда. У него ни на что нет времени, он – машина. Когда ему вспомнить, что он – невежда (а без этого ему не вырасти), если ему так часто приходится применять свои знания?»
Торо широко использует метафору железной дороги как зримого олицетворения цивилизации и параллельно Н. Некрасову («А по бокам-то все косточки русские…» из его «Железной дороги») акцентирует внимание на цене этой цивилизации, этой «железной дороги» («Думали ли вы когда-нибудь о том, что за шпалы уложены на железнодорожных путях? Каждая шпала – это человек, ирландец или янки. Рельсы проложили по людским телам, засыпали их песком и пустили по ним вагоны. Шпалы лежат смирно, очень смирно. Через каждые несколько лет укладывают новую партию и снова едут по ним; так что пока одни имеют удовольствие переезжать по железной дороге, других, менее счастливых, она переезжает сама»).
В своем неприятии цивилизации в большинстве ее проявлений (критическому анализу в «Уолдене» подвергаются в том числе система образования, наука и искусство) и в своем призыве к «опрощению» Торо во многом предвосхищает «позднего» Л. Н. Толстого, которой, в свою очередь, неоднократно апеллировал к авторитету Торо. Впрочем, существенное различие между Г. Торо и Л. Н. Толстым состоит в том, что «поздний» Л. Н. Толстой рассматривал современную ему цивилизацию как безусловное и абсолютное зло, а пользование ее плодами (даже учебу в университете) как грех, а Г. Торо оценивает действительность в контексте меры и числа. Торо, в отличие от Л. Н. Толстого, не отрицает все в цивилизации – просто, по Торо, в ней много лишнего, требующего чрезмерной оплаты своим и чужим трудом, но не способствующего и даже мешающего подлинному совершенствованию человека. Соответственно, цивилизация, по Торо, не есть целиком порождение Дьявола, но к Дьяволу она в некоторой степени причастна: «В них [достижениях цивилизации. – В. Р.] много иллюзорного и не всегда подлинный прогресс. Дьявол продолжает взимать сложные проценты за свое участие в их основании и за многочисленные последующие вклады».
Кроме того, если система ценностей «позднего» Л. Н. Толстого по своей сути аскетична, ориентирована на добровольное отречение от большинства земных благ как на высокое и очищающее страдание во имя выполнения человеком своего высшего назначения, то система ценностей Торо не теоцентрична, а антропоцентрична; Торо предлагает вариант именно счастливой жизни в гармонии с собой и миром, что и может быть достигнуто, по Торо, за счет освобождения от лишнего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу