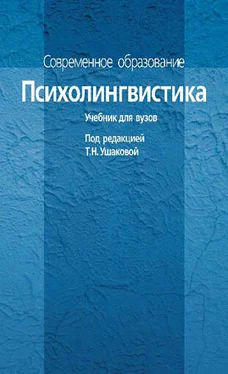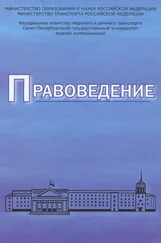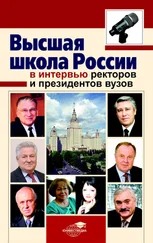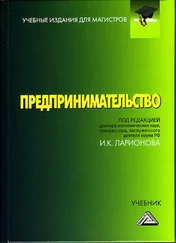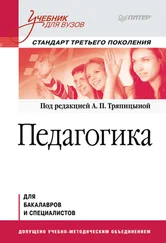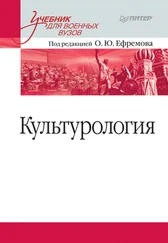В слове существует два содержания – субъективное и объективное. Первое представляет собой ближайшее этимологическое значение слова и всегда содержит в себе только один признак; второе является дальнейшим и может содержать множество признаков. Так, стол может иметь ряд признаков, но само слово «стол» означает только «постланное», что и дает возможность обозначать им всякие столы, независимо от формы, величины материала и т. п. «… Ближайшее значение слова народно , между тем как дальнейшее, у каждого различное по количеству и качеству элементов, лично ».
Нельзя найти двух человек, которые вкладывали бы одинаковое содержание в слово, поэтому полное понимание в процессе общения невозможно. Вследствие этого «всякое понимание есть непонимание, всякое согласие в мыслях – вместе и несогласие». Так же невозможен и перевод с одного языка на другой без определенного изменения смысла, ибо слово первого не может быть тождественно слову второго, даже если оба относятся к одному и тому же предмету или явлению.
Если исключить субъективное значение, то в слове «останется только звук, т. е. внешняя форма, и этимологическое значение, которое тоже есть форма, но только внутренняя». Сама внутренняя форма может быть определена по-разному. Помимо квалификации ее как ближайшего этимологического значения, она понимается как а) отношение содержания мысли к сознанию, показывающее, как представляется человеку его собственная мысль; б) центр образа, т. е. один из его признаков, преобладающий над прочими признаками; в) «образ образа», т. е. представление.
Кроме конкретного (частного, или лексического) значения, слово заключает в себе «указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наряду с содержанием многих других». При этом грамматические категории тесно связаны с лексическим значением, поскольку «вещественное и формальное значение слова составляют один акт мысли».
Важнейшим понятием грамматики является грамматическая форма, которая представляет собой «значение, а не звук». Поэтому нельзя отождествлять ее с окончанием, поскольку многие грамматические формы в определенных случаях не имеют звукового обозначения: «Если при сохранении грамматической категории звук, бывший ее поддержкою, теряется, то это значит не то, что в языке ослабло творчество, а то, что мысль не нуждается более в этой внешней опоре, что она довольно сильна и без нее, что она пользуется для распознавания другим, более тонким средством, именно знанием места, которое занимают слова в целом, будет ли это целою речью или схемою форм». Таким образом, грамматическая форма представляет собой, прежде всего, семантико-синтаксическое понятие и может выражаться не только формальными элементами слова, но и синтаксическими связями. При этом «нет формы, присутствие и функция которой узнавались бы иначе как по смыслу, т. е. по связи с другими словами и формами в речи и языке».
Приведенные материалы показывают, что направленность работы Потебни содержала в себе ясную психолингвистическую ориентацию. Им исследовались и получили конкретизацию важнейшие психолингвистические вопросы – связи мысли и слова, внутренней формы слова. Конечно, по характеру использованного материала и способам его анализа Потебня оставался в первую очередь лингвистом. Однако интуитивно он, видимо, ощущал недостаточность использования только лингвистического материала и настойчиво обращался к психологической, субъективной стороне языковых явлений. Можно надеяться, что идеи Потебни могут быть в наши дни продуктивно развиты в психологическом плане.
Подводя итоги научной деятельности Потебни, следует подчеркнуть, что многие идеи названного ученого сохраняли свою актуальность в течение всего двадцатого века, а представители отечественной психолингвистики обоснованно признают его одним из наиболее выдающихся своих предшественников.
2.1.8. Внутренняя форма слова. Ф. Ф. Фортунатов и московская лингвистическая школа
Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) явился основателем Московской лингвистической школы. Хотя публиковался он относительно мало и притом в основном на малоизвестном в тогдашней Европе русском языке, знали и признали его в зарубежной науке. Активная научно-педагогическая деятельность Фортунатова продолжалась около четверти века и была связана с Московским университетом, где он с 1876 по 1902 год возглавлял кафедру индоевропейских языков. После избрания в академики ученый переехал в Петербург, где принимал участие в работе Отделения русского языка и словесности, редактировал академические издания, но активной научной работы уже не вел. К ученикам Ф. Ф. Фортунатова, внесшим заметный вклад в развитие отечественной науки, принадлежат А. А. Шахматов, Д. Н. Ушаков, В. К. Поржезинский, М. М. Покровский, М. Н. Петерсон, Н. Н. Дурново и ряд других ученых.
Читать дальше