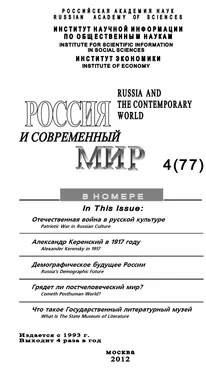Тем не менее война вызвала важные изменения и в народном (крестьянском) мироощущении. 1812-й год напитал новой живительной силой «старомосковскую» народную веру в царя – защитника и заступника / покровителя, укрепив традиционную ментальную основу отношений массы народонаселения и власти. Снимались сомнения в народном характере верховной власти, порожденные петровскими новациями, всем «дворянским» (иными словами, «антикрестьянским») XVIII в. Из священной войны царская власть вышла как бы очищенной от неправд, «исправленной», а потому служба и покорность ей получали высшее обоснование. Крестьянская Россия и царь вновь слились в народном мировоззрении. В победоносной Отечественной 1812 г. – народная легитимация романовской империи; ею был поставлен крест на пугачевщине . Эта символическая основа властенародного единства, стабилизировавшая общественный порядок, стала разрушаться только в ходе тектонического социального сдвига последней трети XIX – начала ХХ в.
Парадоксальным образом из Отечественной вышел также могильщик монархии (как оказалось, и империи), получивший в войне тот эмансипационный заряд, что необходим для самоопределения. С 12-го года начинается отсчет самостоятельного бытия элит , точнее их инобытия – они внутренне освободились от (породившей их когда-то) власти . Ощутив свою отдельность от власти, разделив в сознании ее и Отечество, сделав антивластность основой собственной идентичности, элиты (для начала ХХ в. уместно объединять их термином «интеллигенция», но при этом следует понимать, что это не только «отщепенцы» «общественники» и «художественники», но и административно-управленческая, бизнес-, военная и т.п. элиты) вступили на путь, который привел к Февралю 17-го. Первой вехой на этом пути была попытка антидворцового – не дворцового, заметьте – переворота декабристов (или антисамодержавная революция дворянской аристократии).
Вторая Отечественная: Режим и вождь в народной войне
Войны, как и всякие (особенно самые важные) события в жизни, начинаются совсем не так, как ожидают. Произнося слова о неизбежности войны, формируя атмосферу «предвоенности», люди, как правило, не верят, что война может стать реальностью. Даже политикам свойственно недооценивать риски, совершать ошибки. Любая война, особенно просчитанная и предсказанная, оказывается в той или иной мере неожиданной и внезапной. Для нашей же страны «вероломное нападение» – пожалуй, классический случай начала войны. Так и начинаются в России Отечественные. И все же 22 июня 1941 г. является вопиющим примером всеобщей растерянности и распада в ситуации, «под» которую годами «затачивали» страну.
То, как СССР встретил войну, во многом, как мне кажется, объясняется природой сталинского режима. О нем, конечно, можно сказать много, но мою тему определяет одно. Живя войной и с войны, конструируя реальность в милитарных категориях, он внутренне не был готов к противостоянию с реальным врагом. При всех своих ужасающей жестокости и диком прагматизме, умении ставить и решать большие задачи (от Великих строек до Большого террора), режим 1930-х – начала 1940-х был насквозь иллюзорен: являлся фабрикой социальных грез, производя иллюзии и заставляя все население участвовать в их распространении 16 16 Эти «грезы» (т.е. тиражные творения социальных конструкторов-соцреалистов) суть самоописания, самопредставления системы. Между ними и реальностью был, конечно, гигантский зазор. Но в том, как система себя описывала, проявлялось ее существо. Она выживала, производя двойную реальность, транслируя идеальные образы себя (фиксировали, какими должны быть народ, власть, их ценности и быт). В «совершенно искусственном, воображаемом сюжетном пространстве» «действовали условия, невидимые, скрытые враги и герои, возникали смертельные угрозы всему целому и избавления от них. Но весь этот мир был принципиально непроверяем, неподконтролен частному опыту, поскольку… держался на непреодолимом разрыве между планом коллективных событий и повседневной жизнью» [7, с. 614].
. Это лучше всего демонстрирует культивировавшийся в те годы образ войны. Людям годами навязывалось сознание того, что страна обречена на войну («война на пороге» – советское предвоенное клише). Подготовка к этому неизбежному испытанию – одно из главных оснований легитимности режима. И он действительно готовился воевать, но явно не планировал Отечественной. Поразительно, насколько безответственно несерьезный, облегченный, опереточный образ войны предлагал ее будущим участникам тот, кто их к ней вел: «победоносная война» «малой кровью» «на вражеской территории».
Читать дальше