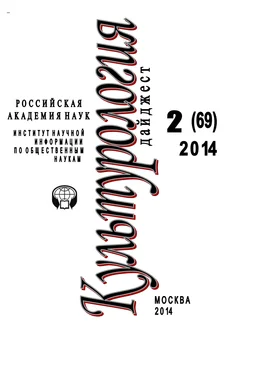) открывает перед ними возможности для переопределения сложившихся и поиска новых проблемных полей в знании о культуре. В настоящее время успешно развиваются такие субдисциплинарные области российской культурологи, как культурная история, локальная культура, культура повседневности, популярная (народная) культура, массовая культура, медиакультура, гендерная культура, межкультурные коммуникации. Все это сближает российскую культурологию и культурологическое образование с научными и академическими установками, которые характерны для современных зарубежных «культурных исследований».Э.Ж.
Собирание себя 2 2 Померанц Г.С. Собирание себя: Курс лекций, прочитанный в Университете истории культур в 1990–1991 гг. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 243 с. – (Серия «Humanitas»).
Г.С. Померанц
Курс состоит из восьми лекций, две из которых Г.С. Померанц читал совместно с З.А. Миркиной.
Лекция первая «Религия и идеология» дает определение религии и показывает, чем она отличается от идеологии. «Религия есть связь с тем, что дает жизни смысл» (с. 9). Это также практика, раскрывающая глубинные слои души, т.е. религиозная практика (молитва, обряды, таинства), а также правильное поведение и правильное мышление. «Идеология – это популярная философия, доступная широким кругам» (с. 12). Религия и идеология суть разные вещи. «Идеология, даже хорошая, не дает глубины» (с. 17). Автор советует: «Думайте о Боге, пишите по-русски – вот и получится русская культура» (с. 21).
Вторая лекция «Метафорика духовного опыта» трактует тему метафор в текстах, передающих духовный опыт. Они могут быть двоякой природы: простые подобия и восприятие реальности метафорически. «Вообще метафоризм заложен очень глубоко во всех наших представлениях», – считает Г.С. Померанц (с. 35).
Говоря об искусстве и о становлении личности, автор реферируемой работы подробно излагает путь становления собственной личности. Серьезную музыку он начал воспринимать еще в детстве, когда смотрел фильм «Чапаев», где белогвардейский полковник играет «Лунную сонату» Бетховена. Затем было «Болеро» Равеля и симфонии Чайковского. Художественную прозу он полюбил еще в школе, прочитав новеллу Томаса Манна «Тонио Крёгер». Особое влияние оказало на него творчество Толстого и Достоевского. Изобразительное искусство он начал постигать с хождения в Третьяковскую галерею (Суриков, Репин, Левитан и др.) и в Музей новой западной живописи (Ренуар), которого теперь нет (с. 56). Окончательно его формирование произошло после 40 лет, пишет Г.С. Померанц, и было связано со встречей с Зинаидой Александровной Миркиной, которая стала подругой его жизни и стихи которой он постоянно цитирует. В совместной лекции «Подлинная красота» Г.С. Померанц и З.А. Миркина приходят к выводу о том, что созерцание подлинно прекрасного и божественного является предпосылкой полноты жизни и счастья.
В лекции «Стихийное в искусстве» Г.С. Померанц уверяет, что стихийное в искусстве сплошь и рядом приобретает демонический характер («Демон» Лермонтова, «Молодец» Цветаевой, «Гаврилиада» Пушкина). В шестой лекции «Свобода и любовь» Г.С. Померанц утверждает, что в русской культуре «свобода и любовь связаны как близнецы» (с. 96). В прочитанной Г.С. Померанцем совместно с З.А. Миркиной лекции «Метафорика любви» рассказывается о переходе земного, весьма напряженного «сердечного чувства в чувство, подобное религиозному и сливающееся с религиозным» (с. 104). Ведь богословы говорят, что «Бог есть Любовь» (с. 108).
Восьмая лекция «Иконография бесконечности» повествует о том, что «красота всякого высокого искусства, даже если оно не осознано религиозно, есть вмещенная бесконечность, форма, в которой чувствуется дыхание бездны, дыхание бесформенности, которую эта форма уравновесила и преодолела» (с. 119). Хорошее религиозное искусство «дает нам некое направление, ведущее к вечному свету, а не к вечной тьме» (с. 123). Ведь «многие книги Библии – это искусство» (с. 132).
И.Г.
Создавая нации 3 3 Занд Ш. Создавая нации // Кто и как изобрел еврейский народ / Пер. с иврита М. Урицкого / Под ред. А. Этермана. – М.: Эксмо, 2012. – С. 69–135.
Шломо Занд
Автор, профессор Тель-Авивского университета, рассматривает современные нации как своего рода социокультурный проект.
В досовременных письменных источниках именование «народ» присваивалось группам людей, обладавшим самыми различными характеристиками. От «галльского народа» на исходе Античности до «саксонского народа» на просторах Германии в канун Нового времени, от «народа Израиля» времен написания Библии до «Божьего христианского народа» средневековой Европы, от крестьянских общин, объединенных схожими диалектами, до бунтующих городских масс – ярлык «народа» легко наклеивался на самые различные людские группы, идентификационные границы которых оставались размытыми. В XV в. в Западной Европе между крупными языковыми общностями обозначились более четкие границы. С этого времени термин «народ» стал прилагаться преимущественно к ним.
Читать дальше