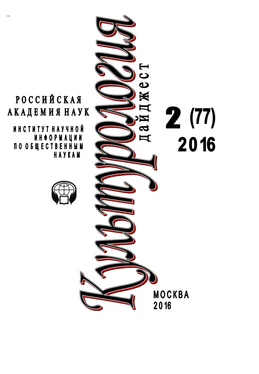Претензии каждого нового автора на самостоятельность и принципиальную новизну при детальном разборе выглядят малоубедительными, поскольку каждый автор получает готовые формы и сюжетные ходы от предшественников и вынужден создавать что‐то новое на фоне гигантского массива текстов.
Ситуация невозможности создания чего‐то принципиально нового сама нова для истории культуры. Если в предыдущие столетия постоянно сохранялся мощный смысловой резерв, возможность потенциального рывка в ту или иную сторону, то начиная с рубежа 70‐х годов ХХ в. в литературе, живописи, музыке наблюдается ситуация если не полного тупика, то, во всяком случае, отсутствия какой-либо перспективы. Дело в том, что авангард 20–30‐х годов исчерпал практически все формальные возможности, оставив после себя лишь возможность постмодернистской игры в материал, наработанный культурой за тысячелетия.
В этом смысле эпоха постмодерна, в рамках которой мы пребываем, дала пример тотальной интерпретации всего того, что было сделано ранее: «интерпретация» и есть суть постмодерна, то ключевое слово, которое помогает понять принцип его устройства – наряду с «иронией» и «развлекательностью», о которых писал Умберто Эко в «Заметках на полях» романа «Имя розы». Собственно, ничего трагического в этом нет: постмодерн не упал с неба, а стал закономерным итогом всего предыдущего развития искусства. В этом смысле постмодерн не открывает, как полагают многие, новую эпоху в истории культуры, а, наоборот, закрывает ее.
Даже если речь идет о новом сюжете или новой теме, нынешняя реальность такова, что это новое будет переосмыслением (или интерпретацией) того огромного Текста, который культура успела составить за время своего существования. Конечно, эти слова можно в разной степени отнести к любой эпохе, однако никогда еще названный принцип не охватывал собой весь массив культуры и к тому же осознавался теми, кто эту культуру создает.
Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку осознание творческого принципа теперь не только не закрывает пути для создания новых текстов, как это было еще несколько десятилетий назад, но как раз является условием того, чтобы они могли возникнуть. Возможно, это объясняется тем, что принцип интерпретирования по своей природе отличается от всех других эстетических принципов. Интерпретация в основе своей беспредметна, внесодержательна – в том смысле, что ей все равно, с каким материалом иметь дело. Главное здесь – это сама возможность изменить – каким угодно образом – исходные значения, использовать их так, чтобы они составили основу для решения какой‐то новой задачи.
Т.А. Фетисова
Число зверя. Этничность как человеческая форма животного состояния 7 7 Эрлих С.Е. Число зверя. Этничность как человеческая форма животного состояния. – Режим доступа: http://www.intelros.ru/readroom/materialy-seminara-shkoly-repnoe/sentyabr-2015/27942-chislo-zverya-enichnost-kak-chelovecheskaya-forma-zhivotnogo-sostoyaniya.html
С.Е. Эрлих
Этничность выступает древнейшим, т.е. наиболее близким к звериным повадкам, видом человеческой солидарности. Этимология сменяющихся со временем этнических форм: род, племя, народность, нация (лат. natio от natus «рожденный») – свидетельствует о том, что представители одного этноса считают «своих» кровными родственниками, имеющими общего «тотемного» предка. Изначальное зоологическое понимание кровной общности с переходом к земледелию дополняется ботанической метафорой общей «почвы» – «родины», «отечества», на которой «коренной» этнос произрастает испокон века.
«Зооботаническая» этничность, сакрализованная архаичными верованиями в общего тотемного предка, приспосабливает к себе и «модернизированные» религиозные системы». Не только религии племенные, вроде иудаизма, но и мировые – в значительной мере «этнизируются» в качестве «веры предков». Подчинение самых возвышенных религий грубой кровно-почвенной этничности подтверждается фактом многочисленных войн во имя торжества религии, одной из главных заповедей которой является «Не убий!»
Этнический принцип во многих случаях преобразует по своему подобию не только религиозное, но и «классовое» сознание. В феодальную эпоху представители правящего сословия ощущали, что в их жилах течет иная, чем у простонародья, кровь. Не просто благородная, но чужестранная. Достаточно быстро «этнизировались» и победители «пролетарских» революций прошлого века. В сталинской России, Китае Мао Цзэдуна, Румынии Чаушеску и других казарменно социалистических странах интернациональный «классовый» подход уступил ценностям этнического патриотизма.
Читать дальше