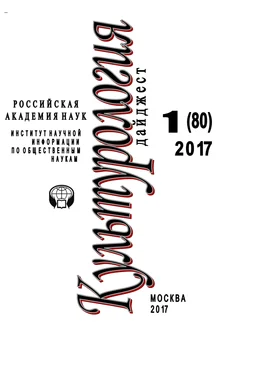Тот «взрыв» в истории гуманитарно-филологического мышления, указанием на который выразительно обрывается известная энциклопедическая статья С.С. Аверинцева «Филология» 5 5 Аверинцев С.С. Филология // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1972. – Т. 7. – С. 979.
, был общеевропейским событием; но в России это событие имело насильственный характер и сопровождалось определенными лакунами и редукциями, последствия которых по-настоящему «аукнулись» после 1991 г. и особенно – в новом столетии. Для того чтобы подступиться к этому поворотному событию, возвышенный образ «культуры» (и даже культурного «взрыва») явно недостаточен. Вообще идеализация понятия культуры, характерная для позднесоветского сознания, – это в значительной степени еще инерция раннего советского проекта «культурной революции» (как бы ни менялось со временем идеологическое наполнение этой формулировки).
Дело в том, что решающее философское событие ХХ в. – «переход от мира науки к миру жизни » 6 6 Гадамер Г.-Г. К русским читателям // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 6. Подробнее об этом см.: Махлин В.Л. Переход (Комментарий на послание Г.-Г. Гадамера «К русским читателям») // Махлин В.Л. Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии. – М.: Знак, 2009. – С. 205–223.
в самом научно-теоретическом мышлении – радикальная и обновляющая самокритика Разума, трансформация предпосылок всей западной философии от Платона и Аристотеля до неокантианства – в русском научно-философском и духовно-идеологическом мышлении нормально не состоялось, не закрепилось и не имело продолжения ни в научно-материалистическом (советском), ни в религиозно-идеалистическом (дореволюционном и эмигрантском) мировоззрении и мечтательстве «о главном». Там и там, за вычетом идеологической полемики, мышление осталось, в методологическом смысле, на стадии утопии , т.е. на стадии общественного идеала, как бы перепрыгивающего через вяжущую, замедляющую «фактичность» мира жизни (бытия) с его продуктивной ограниченностью («конечностью») и незавершенностью («открытостью»).
Можно, оказывается, остаться с текстами , как с дыркой от бублика. Ведь в науках исторического опыта, как и в самом историческом опыте, даже при нормальных внешних условиях, решающее значение имеют не так называемые научные результаты, не «итоги», тем более не «идеология науки как профессии», которая, как отмечал Т. Кун, всегда стремится подменить действительную историю науки модернизированной версией ее, полученной задним числом 7 7 Кун Т. Структура научных революций (1962). – М., 2001. – С. 182. В науках исторического опыта еще сильнее, чем в так называемых опытных науках, которые имел в виду Т. Кун, действует «настойчивая тенденция представить историю науки в линейном и кумулятивном виде» (с. 182).
. Мы выпали не из истории вообще, но из «действенной истории» постольку, поскольку «опоздать» в историческом опыте значит выпасть из своевременного разговора . Кажется, нигде это выпадение или отпадение не было таким радикальным, как в нашей стране.
И это несмотря на то что в России «переход от мира науки к миру жизни » в научно-философском мышлении назрел между двух революций, когда русская философия едва ли не в первый и последний раз встала, действительно, «с веком наравне». Но, в отличие от Запада, новая революция в способе мышления в России сорвалась на взлете. Онтологически-событийный парадокс, как мне кажется, в том, что российское научно-гуманитарное мышление после советского века может по-настоящему открыть и воспринять свои собственные творческие достижения уже только через Запад , на апперцептивном фоне относительно свободно и интенсивно, институционально развивавшейся западноевропейской мысли 8 8 Ср. мрачное, но точное пророчество А.Ф. Лосева, помеченное 3 апреля 1928 года: «…и русские люди будут читать немцев, не понимая и не зная, что это было у нас гораздо раньше и притом гораздо значительнее и богаче, но что разные “условия” спокон веков мешают нам быть самими собою и разрабатывать свои же собственные, своим жизненным опытом выношенные идеи». – Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1930. – С. 4. А.Ф. Лосев, к сожалению, забыл добавить, что «быть самими собою» в научном, тем более в философском отношении у нас можно только в активном взаимодействии с западной мыслью в ее относительно непрерывном развитии и самокритике.
.
Читать дальше