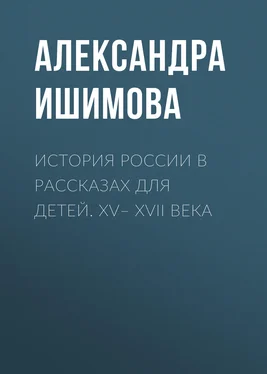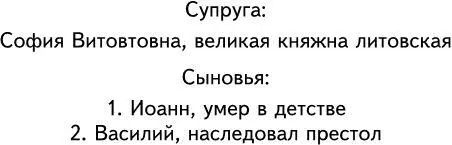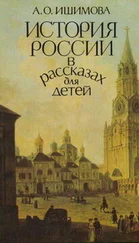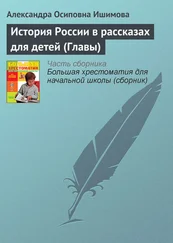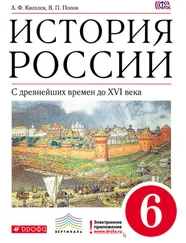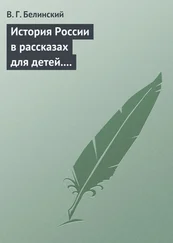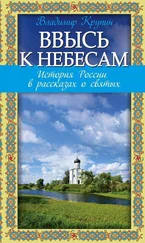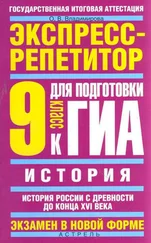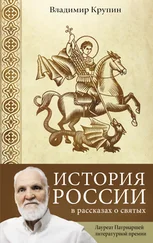«От Эдигея поклон к Василию после думы с царевичами и князьями нашими. Великий хан послал меня на тебя с войском, потому что слышали мы, что у тебя укрываются дети Тохтамыша. Да еще слышали мы, что у тебя в Московском княжестве неправо делается: вы осмеиваете и всячески притесняете не только купцов наших, но даже и послов царских. Так ли бывало прежде? Спроси у стариков; земля Русская была нашим верным улусом, держала страх, платила дань, почитала послов и гостей ординских. Ты не хочешь знать того и что же делаешь? Когда Тимур сел на царство, ты не видал его в глаза, не присылал к нему ни князя, ни боярина. Прошло царство Тимурово; Шадибек восемь лет был ханом – ты не был у него! Теперь царствует Булат уже третий год: ты, самый старший князь в улусе русском, не являешься в Орде! Все дела твои недобры. Были у вас нравы и дела добрые, когда жил боярин Федор Кошка и напоминал тебе о ханских благодеяниях. Ныне ты думы старцев не слушаешь. Что же вышло? Разорение твоему улусу! Хочешь ли княжить мирно? Призови на совет бояр старейших – Илью Иоанновича, Петра Константиновича и других, согласных с ними в доброй думе; пришли к нам одного из них со старинными оброками, какие вы платили царю Чанибеку, чтоб не погибло совсем твое царство. Все, что ты писал к хану о бедности народа русского, несправедливо: мы теперь сами видели твой улус и узнали, что ты собираешь в нем по рублю с двух сох. Куда же идет серебро? Земля христианская осталась бы цела, когда бы ты исправно платил дань; а теперь бегаешь, как раб!.. Размысли и научися!..»
Но Василий Димитриевич не испугался этого грозного письма, не исполнил ни приказаний, ни советов Эдигея и вообще во все время своего тридцатишестилетнего княжения менее всех прежних великих князей платил дань татарам и менее всех признавал власть их над собою. Это приметно и из духовного завещания его, в котором он уже явно, не ожидая согласия Орды, объявляет наследником Великого княжества малолетнего сына своего Василия. Боясь, как бы честолюбивые братья его по прежнему праву дядей не лишили малютку престола, Василий Димитриевич поручил его покровительству тестя своего – прежнего врага, а потом помирившегося с ним государя литовского. И здесь виден хитрый ум Василия: такая лестная доверенность не могла не внушить гордому Витовту желания оправдать ее перед глазами света. Если бы в голове литовского князя еще оставалась какая-нибудь мысль о завладении Московским государством, то и на этот случай Василий Димитриевич сумел распорядиться: он дал совету великокняжескому, который состоял из бояр – пестунов маленького государя, письменные наставления, в какой мере должно принимать покровительство Витовта и до чего не допускать его.
В княжение Василия Димитриевича появились в России разные искусства: Москва славилась хорошими живописцами, которые прекрасно расписывали церкви; были также в ней и литейные мастера, а в 1404 году один монах, Лазарь, родом из Сербии, устроил первые часы с боем, которые поставлены были на великокняжеском дворе, за церковью Благовещения, и стоили 150 рублей серебром. Народ удивлялся этим часам, как чуду, и при каждом бое толпами сходился смотреть и слушать их. У предков наших при Василии Димитриевиче были также и рыцарские игры, или карусели и турниры. Они называли это игрушками. На этих игрушках молодые люди иногда наносили смертельные раны друг другу.
Таблица XXXV
Семейство великого князя Василия II Димитриевича
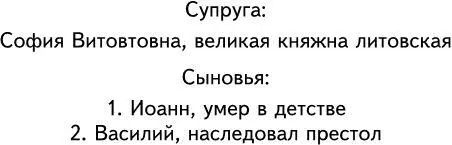
Ссора на свадьбе великого князя Василия III
1425–1433 годы
27 февраля 1425 года скончался Василий Димитриевич. Все братья его, бывшие в Москве, обещали ему считать государем своим десятилетнего сына его Василия. Один только Юрий Димитриевич, князь звенигородский, не давал этого обещания и, узнав о смерти брата, отправил посла с угрозами в Москву. Но маленький князь не испугался дяди: у него была умная мать, был сильный опекун, дед его Витовт Литовский, были усердные советники и пестуны, между которыми самым искусным, самым красноречивым и самым хитрым был боярин Иван Димитриевич. Все эти защитники малолетнего государя русского, посоветовавшись между собою, отправили от имени его к Юрию Димитриевичу митрополита Фотия.
Его убеждения подействовали на Юрия: он согласился хотя не совсем отказаться от Великого княжества, но, по крайней мере, до тех пор, пока царь татарский решит, кому оно принадлежит.
Читать дальше