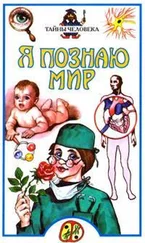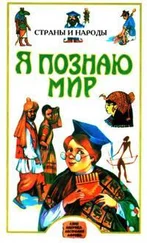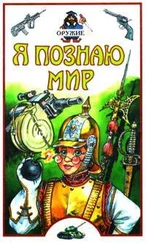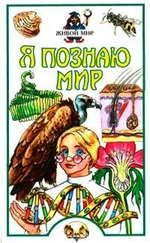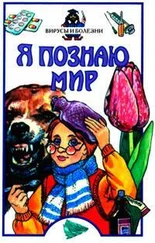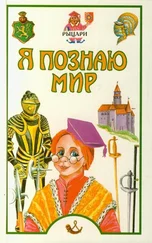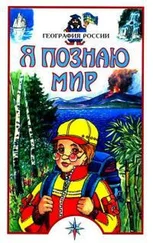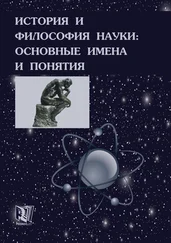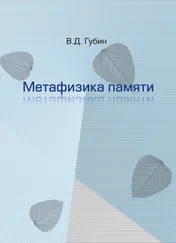В этом, считал Чаадаев, виновата православная религия. Это религия дряхлая, она всегда шла на поводу у власти, никогда не организовывала народ, не вдохновляла его на великие свершения, тогда как католицизм с его военно-монашескими орденами, крестовыми походами, завоеваниями новых земель значительно повлиял на развитие многих стран, а протестантизм дал мощный толчок развитию капитализма.
Без сомнения, писал Чаадаев, мы христиане, но и эфиопы тоже христиане. Христианство должно объединять и направлять духовное развитие общества, так что Россия нуждается в оживлении веры, в том, чтобы получить истинно христианский импульс.
А. С. Пушкин возразил Чаадаеву по поводу первого «Философического письма»: разделение церквей (у нас православная церковь, а на Западе — католическая) отъединила Россию от остальной Европы, и она не принимала участия ни в одном из великих событий, которые потрясали Европу. Но у России было свое особое предназначение.
Ее необъятные просторы поглотили монгольское нашествие. Татары побоялись оставить нас в тылу, и западная цивилизация была спасена. Нашим мученичеством, считает Пушкин, энергичное развитие католической Европы было избавлено от помех.
Что же касается исторической ничтожности России, то Пушкин решительно не согласен с Чаадаевым. Даже княжеские междоусобицы — это жизнь, полная кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов. Пробуждение России, развитие ее могущества, оба Ивана (III и IV), величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр I, который привел нас в Париж?
И наконец, писал Пушкин, разве Чаадаев не находит ничего значительного в теперешнем положении России — чего-то такого, что поразит будущего историка? Разве и в будущем Россия останется в стороне от Европы? Действительно, в нашей российской действительности много глупостей и неурядиц, многое оскорбляет и раздражает, но тем не менее, говорит Пушкин, он ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой истории, какую нам дал Бог.
Спор Чаадаева и Пушкина — это извечный спор русских интеллигентов о судьбе России. Одни считали, что русская история — это сплошное недоразумение, что Россия — типично азиатское деспотическое государство с некоторыми декоративными элементами европейского управления, с задавленным и необразованным народом, который в силу своей темноты поддерживает деспотию. И самое лучшее для мыслящего человека — это эмигрировать: или за границу, или уйти в себя. Об этом писал Лермонтов:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Другие, прекрасно сознавая всю тяжесть и нелепость русской жизни, считали своим нравственным долгом служить делу просвещения, пробуждать спящие души, «на тронах поразить порока. Ибо другой родины, другой истории у нас нет, и надо пытаться изменить к лучшему то, что есть.
Через год после публикации первого «Философического письма» Чаадаев пишет «Апологию сумасшедшего», в которой он пытается прояснить свои мысли и дать отпор тем «патриотам», которые обвиняли его в нелюбви к России.
Чаадаев пишет в этой статье, что давно пора было бросить ясный взгляд и в наше прошлое, — и все затем, чтобы извлечь оттуда старые идеи, а для того, чтобы узнать, как мы должны относиться к своему прошлому.
Больше, чем кто-нибудь из вас, отвечал Чаадаев своим «патриотическим» оппонентам, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа. Но я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, запертыми устами. Человек может быть полезен стране только в том случае, если он ясно видит ее. Прошло время слепых влюбленностей, теперь надо с открытыми глазами искать истину.
Я люблю свой народ, говорил мыслитель, как Петр Великий научил меня любить его. Но мне чужд блаженный патриотизм лени, который все пытается видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями, навязывая их многим дельным умам.
Разумеется, считал Чаадаев, что те обвинения, которые он предъявил великому народу, были преувеличением. Да и вся вина народа, в конечном счете, сводилась к тому, что он был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций мира, далеко от стран, где естественно должно было бы накопляться просвещение, далеко от очагов, откуда оно сияло в течение стольких веков.
Читать дальше