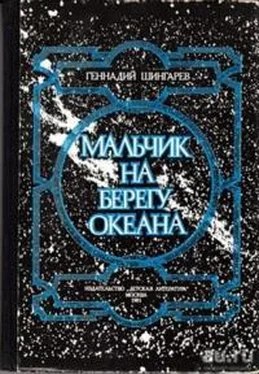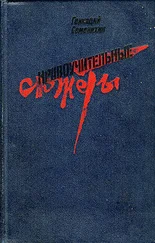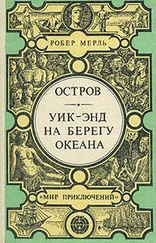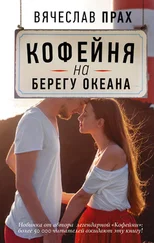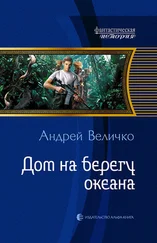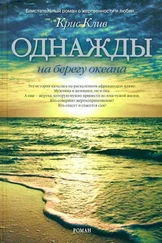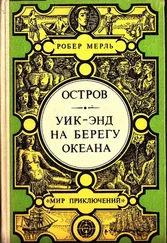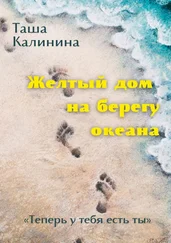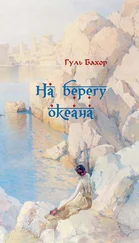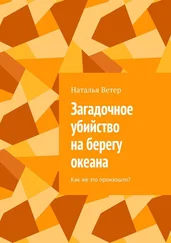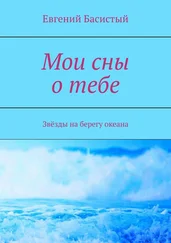Путешественнику показывают одно из таких изобретений. Посреди комнаты стоит рама с рядами висящих на проволочках деревянных дощечек. К дощечкам приклеены бумажки с разными словами во всевозможных падежах, временах и наклонениях. Помощник крутит ручку, дощечки поворачиваются, и слова складываются как попало. Иногда с грехом пополам удается сложить какую-то фразу. Ее тотчас же записывают.
«Ученики занимались этими упражнениями по шести часов в день, — рассказывает Гулливер, — и профессор показал мне множество фолиантов, составленных подобным образом. Он намеревается связать их вместе и из этого богатого материала дать миру полный свод всех искусств и наук».
Не так уж трудно догадаться, куда метит сатирик! Набор слов, многотомная ученая белиберда — вот что такое, по мнению Свифта, академическая наука.
Но в том-то и дело, что ни один из сногсшибательных проектов лагадских мудрецов не был плодом фантазии Свифта. Не выдумал он и машину для сочинения книг.
Около 1280 года испанский схоласт Рамон Лулл, после долгих размышлений о том, каким образом надлежит искать истину, пришел к выводу, что этот процесс можно механизировать. Он сконструировал «машину открытий», которая представляла собой систему концентрических кругов, поделенных на секторы с буквами латинской азбуки; каждая буква означала какое-нибудь отвлеченное понятие. Например: В — доброта, С — величие, D — бессмертие. Посредине помещался кружок с буквой А», обозначавшей центральное понятие: Бог.
Опустив некоторые подробности этого проекта, можно сказать, что принцип действия машины был прост. При повороте рычага круги вращаются, буквы складываются в различные сочетания, и таким образом агрегат выдает готовые суждения о Боге и сущности вещей.
Идея Лулла может вызвать улыбку. Тем не менее у нее нашлись продолжатели. Дело было не в конструкции, не в том, что мы и без машины можем составить суждение о том, что Бог велик и всемогущ, а в самой идее: некоторые логические операции, совершаемые человеческим разумом, можно поручить машине. Эта мысль не так уж глупа. Недаром за нее ухватились в XVII столетии: о мыслящих механизмах писал Готфрид Лейбниц (о нем у нас еще пойдет речь). И разве будет преувеличением, если мы скажем, что современные нам компьютеры, умеющие решать сложные задачи, ставить медицинский диагноз, играть в шахматы, переводить тексты с одного языка на другой, — отдаленные потомки машины Рамона Лулла?
Этот пример поучителен. Он показывает, что между схоластической ученостью Средних веков и наукой Нового времени существовали сложные отношения. Ученые семнадцатого века отвергали бесплодные словесные упражнения средневековых книжников, но в то же время они были их наследниками и учениками. Восстав против власти авторитетов, они многое у них заимствовали. Борьба научной мысли с религиозной догмой происходила в недрах самой науки, и ареной этой борьбы были университеты. Общение учителей и учеников, седобородых профессоров и зеленой молодежи характерно для университета — оно обеспечивало прочность университетских традиций. Но оно же и сталкивало старое с новым, отживающее — с молодым.
Старинные европейские университеты гордились своим прошлым, верностью средневековым обычаям и авторитетам; они, как неприступные башни, высились, преграждая путь пытливой мысли и независимому познанию. Но смелая мысль проникала и в эти цитадели; нередко она в них и зарождалась. Вот почему университеты, этот памятник средневековья, не исчезли вместе с концом Средних веков, как исчезли рыцарские ордена или цехи ремесленников. Университеты принадлежали и прошлому, и будущему.
Cap and gown — это выражение в английском языке означает принадлежность к университету. Синий плащ и квадратная, со свисающей кистью шапочка английского профессора или студента по сей день, как и много веков назад, напоминают о том, что их владелец состоит участником особого братства.
Путешественнику, прибывшему в середине XVII столетия в Кембридж, могло показаться, что время не властно над этими стенами и этими людьми. Перейдя мост через речку Кем, он видел перед собой дорогу, проложенную легионерами Цезаря. Прямая и узкая, она вела к центру города; справа и слева стояли невысокие двухэтажные дома из серого камня или красного кирпича со сводчатыми зарешеченными окнами, сводчатыми входами, затейливыми башенками и готическими шпилями церквей, встроенных между зданиями.
Читать дальше