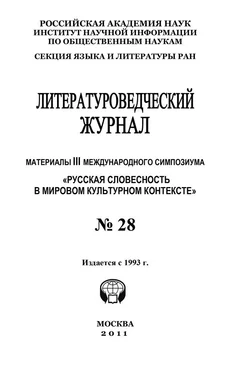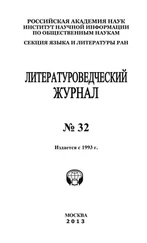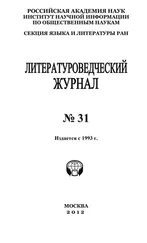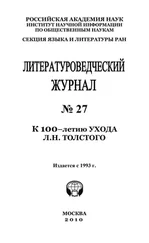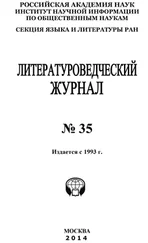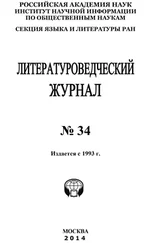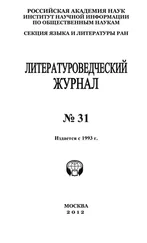Развитие гуманитарной мысли в нашей стране, как известно, было насильственно прервано вследствие организационного подавления «идеалистического» инакомыслия. Восторжествовавший марксизм, одним из вариантов применения которого к литературе стала советская ее интерпретация, является лишь частной разновидностью материалистического подхода и материалистического объяснения духовной сферы человеческой деятельности.
С этой точки зрения и «формальный метод» в литературоведении – при всех его несомненных научных достижениях – являлся лишь наиболее радикальным, крайне левым крылом того же марксистского материалистического подхода. Далеко не случайно его определяющее влияние именно в первое – столь же радикальное – десятилетие советской власти, как и последующее постепенное «затухание» этого радикализма в недрах откристаллизовавшейся к тому времени советской гуманитарной науки.
«Борьба» социологического и формалистического крыла в советском литературоведении – это «спор между своими». Не случайно работы «чужих» М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева, в различной степени, но наследовавших христианские религиозные традиции в гуманитарной сфере, не имели практически никакого значительного резонанса – помимо карательных оргвыводов.
Таким образом, религиозно-философское направление, чрезвычайно ярко себя проявившее в конце ХIX – начале XX в., оказалось практически невостребованным в отечественной гуманитарной мысли – вплоть до конца 80-х годов. В результате некоторые важнейшие проблемы, поставленные русскими писателями, либо сознательно затушевывались, либо сознательно же мистифицировались. В том числе проблема, вынесенная в заглавие предлагаемой работы.
Разграничение вселенского , т.е. церковнославянского, восходящего к эллинскому, и родного , т.е. собственно русского, возможно только теоретически, в абстракции, только в кабинетах. В жизни это непременно ведет к выпадению из истории. Надо заметить, провинциализм русского языка культивировался в советское время достаточно недолго. Проекты с латинизацией также были отброшены. Очень скоро русский язык вновь обрел универсальность, не вселенскость, а универсальность, став средством межнационального общения (но именно – средством ). Как писал наш советский «земшаровец» Михаил Кульчицкий в 40-х годах: «Только советская нация / будет / и только советской расы люди». Советской расы люди разговаривают на особом языке – советском : «Кто понять не может, / будь глухой – / на советском языке / команду – в бой!». В итоге этой новой универсализации церковнославянская ипостась русского языка не просто истончилась, она зачастую обретала чисто негативные коннотации. Например, слово преподобный в русской языковой картине мира находится в ореоле святости ; в переводе же на советский язык это же слово означает глупого, недалекого, странного человека – достаточно хотя бы вспомнить рассказы Шукшина. И именно этот советский жаргон русского языка внедрялся в качестве литературной универсальной нормы.
В итоге этой жаргонизации нашего языка постепенно ослабевала, так сказать, сама его иммунная система и нынешнее его состояние, от невероятного засорения интернациональной лексикой до «языка падонкофф» – является лишь следствием того повреждения двуипостасности, той утраты внутренней формы, о которой предупреждал Вяч. Иванов. Таким образом, жаргонизация русского языка – это вовсе не результат его «естественного» развития, как это пытались представить в нашей филологии, это порча самой его глубинной природы. Стоит только вслушаться в глаголы, которым Иванов передает этот процесс порчи: «Язык наш… кощунственно оскверняют богомерзким бесивом, неимоверными, бессмысленными, безликими словообразованиями… хотят его обеднить… его забывают и растеривают… оскопляют и укрощают… ломают… уродуют поступь… подстригают ему крылья».
Не случайно молодой Дмитрий Лихачёв, когда он еще не был кумиром советской образованщины, а был оскорбленным в своих чувствах русским патриотом, в докладе 1928 г. «О старой орфографии», за который и получил тюремное заключение, сделал вывод о ярко выраженном антиправославном подтексте реформы. Новая орфография, как старался показать Лихачёв, «посягнула на самое православное в алфавите…». При этом устроители ломки русского языка, «они (имя которым – легион) хотят предать забвению ту ненавистную связь, которая существовала когда-то между Византией и Русью, Россией… они пытались… отторгнуть Россию от небесной благодати» 4 4 Лихачёв Д.С. Статьи разных лет. – Тверь, 1993. – С. 13–14.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу