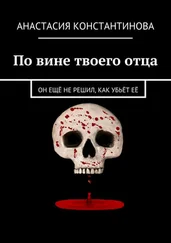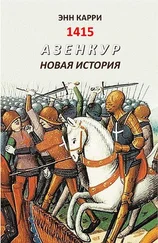Поэтому Миль не сказала ей, что в огне то и дело мелькают и кружатся… девочка не знала, как назвать… то ли картинки, то ли обрывки снов… когда целиком, когда — кусочки. Миль замучилась бы писать об этом в том блокноте, в котором объяснялась с бабушкой. Проще было что-то такое нарисовать. Однако бабушку эти рисунки надолго озадачивали, она начинала волноваться, расспрашивать внучку, о чём это, да где она такое видела… В общем, рисовать-то Миль рисовала — невозможно было держать впечатления в себе, но от бабушки свои картинки стала прятать — то изорвёт, а то исчеркает так, чтоб ничего стало не разобрать. Зато бабуля глянет, покрутит в руках — и отложит. Без вопросов и без паники.
…В пушистых белых мехах, усыпанная сверкающими драгоценностями, Зима царственно шествовала по своим покоям, неторопливо меняя интерьеры и колориты, развешивая кисею снегопадов и хрусталь сосулек, взбивая перины сугробов в гостевых палатах и расстилая лучшие ковры; слуги сбивались с ног, полируя ледяные полы в бальных залах — Зима была идеальной хозяйкой и щедрой, хотя и строгой, госпожой, в её владениях всегда и всё подчинялось тонкому вкусу, и не было места другому критерию, кроме Совершенства. Бесчисленные фрейлины под бесконечную пентатонику придворных свирелей и флейт терпеливо расшивали пайетками и блёстками тончайшие вуали и шелка, которыми затем Зима приказывала затягивать окна…
Большую часть зимы Миль провела дома — бабушка, боясь простуд, редко выводила её гулять, а одну отпускать и вовсе не хотела — и всё же, неведомо как, Миль заболела. В одно, что называется, прекрасное утро, подойдя к зеркалу, девочка очень удивилась: всё лицо, шея, руки и ноги оказались покрыты россыпью красных точек. Задранная майка явила взору ту же картину, и восхищённая зрелищем Миль весело поскакала на кухню, чтобы порадовать такой красотой бабулю. Но бабушка почему-то вовсе даже не обрадовалась, а, всплеснув руками, велела немедленно вернуться в постель и не вставать без разрешения.
И потянулись долгие скучные дни в постели, живо напомнившие больницу. Таблетки, микстуры, перемежаемые отварами трав, иногда противными, иногда — нет, непонятные процедуры и уколы. Миль не возражала — лишь бы исчезло из бабулиных глаз это беспокойство, этот страх.
Временами комната начинала как бы плыть, и снова, и опять… со стен стекала вверх полутьма и укутывала потолок, на нём появлялись пятна, складывались в картины, нудные, бессмысленые, в них возникали незнакомые люди, ходили, что-то говорили, передвигались на стены, уходили в углы, выходили из углов, делали что-то непонятное и ненужное, приставали с расспросами… Миль силилась им ответить и, казалось, ей это даже удавалось… А потом открывала глаза, видела перед собой бабушкино лицо, ощущала даруемую её руками прохладу на своём пылающем теле, смутно понимала: «Болею»… но вновь наплывала бессмыслица, казавшаяся очень важной, и Миль опять пыталась в ней разобраться и очень от этого уставала…
Разобраться, где бред, а где — явь, было непросто. Бред, отчего-то отчётливый, выпуклый, запоминался ясно, тогда как явь выглядела серой и необязательной, какой-то стёртой. Люди, возникавшие возле её постели, большей частью — женщины, немолодые-нестарые, одетые неприметно, с обычной, неброской внешностью — Миль бы потом их вряд ли узнала б при встрече — склонялись над нею, задавали вопросы, да так, что на них очень хотелось ответить, и Миль так старалась это сделать, что ей становилось плохо, хотя, казалось, куда уж хуже. Тут обычно появлялась бабушка, комната вся вздрагивала, люди в тёмном разлетались, как стая тёмных птиц, как сухие листья. Бабушкина ладонь опускалась на раскалывающийся от боли и жара лоб внучки, и девочка блаженно засыпала… Но сон скоро опять переходил в бред, в комнате опять темнело, и, непонятно откуда, опять слетались к её постели люди в тёмных одеждах, люди-тени.
— Кыш, проклятые! — от бабушкиного крика вздрагивал, казалось, весь мир. — Ей нечего вам сказать! Оставьте нас в покое!
И тени отступали, расступались, расползались по углам. Бабушка подносила к губам внучки горячее питьё:
— Пей осторожно, это надо выпить горячим.
И Миль послушно прихлёбывала, а бабушка, по обыкновению, что-то приговаривала, Миль даже почти разобрала — что, но — заснула. Позже, просыпаясь, она видела: бабушка дремлет, заслоняя её собой, прикрывая руками, а если люди-тени сходились опять, бабушка вскидывала голову, и от её безмолвного крика по комнате пробегала волна удара. И тени отступили. В комнате то и дело ещё темнело по углам, но никто из них больше уже не выходил.
Читать дальше