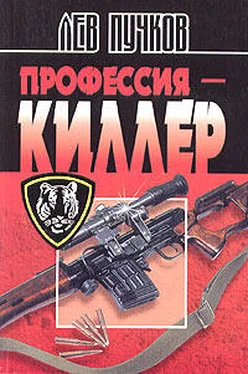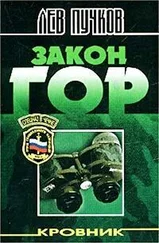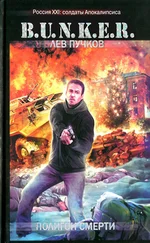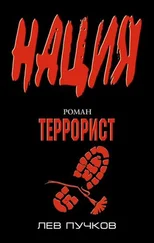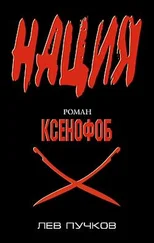Помнится, я равнодушно посмотрел на него, даже не пытаясь связать появление в моей убогой хате этого отпадно прикинутого типа с недавним разговором по телефону.
Если я ничего не путаю, кажется, он первым делом задал довольно странный для сложившихся обстоятельств вопрос:
— У тебя сохранился семейный альбом?
Вяло посоображав, я мотнул головой в сторону платяного шкафа, на котором, сколько я себя помню, всегда лежал этот альбом — в коробке из-под маминой шляпы.
Кажется, у меня в тот момент мелькнула мысль, что я этого типа где-то видел, и не раз, и он меня — соответственно, и что этот тип желает идентифицировать меня с тем образом, который был ему знаком. Настолько, видимо, я опустился, что он, глядя на меня, сомневался, действительно ли я тот, за кого себя выдаю.
Пришелец встал на цыпочки, осторожно достал коробку со шкафа, обрушив на себя тучи пыли, извлек из нее альбом и сел на продавленный диван рядом со мной, брезгливо поморщив нос — от меня, наверное, так несло…
Присев на диван, он несколько секунд подержал руки на обложке альбома, как будто не решался открыть его, потом начал аккуратно перелистывать жесткие страницы, внимательно рассматривая хранившиеся в альбоме фотографии. Я молча сидел рядом с ним и тупо смотрел перед собой, даже не поинтересовавшись, чем вызвана необходимость именно сейчас производить досмотр альбома, — наплевать на все было.
Сколько времени он был погружен в прошлое нашей семьи, я сказать затрудняюсь. Помню, дойдя до последней страницы, он тяжело вздохнул, снова раскрыл альбом где-то посередине и вытащил из прорези небольшую старую, но довольно хорошо сохранившуюся фотографию. И сунул мне ее под нос.
— Такие снимки еще есть? — Он говорил тихо, как с тяжело больным. — Вообще, есть еще где-нибудь фотографии?
Я немного помолчал и отрицательно помотал головой, поскольку, с трудом шевельнув извилинами, вспомнил, что, когда мне было лет восемь-девять, отец по какой-то причине уничтожил все другие фотографии.
Мама тогда принесла от родителей два своих альбома — школьный и институтский. Я частенько их разглядывал, когда бывал у бабки.
Мой отец был всегда спокойный. Мог иногда на меня повысить голос из-за каких-то моих шалостей, но на маму — никогда. Вот почему я так хорошо и запомнил, что именно в этот день отец сильно кричал на мать — не знаю, по какой причине, а потом тщательно перебрал все фотографии в этих двух альбомах, часть из них вставил в наш семейный толстенный альбом с бархатной голубой обложкой, а остальные сжег. Помню, что мама сильно плакала, а позже на мои бестолковые вопросы отвечала, что у папы неприятности на работе. После этого они с отцом неделю не разговаривали…
Этот тип тяжело вздохнул, поднялся с дивана и, как мне показалось, бережно положил альбом в коробку. Постоял молча около минуты, потом повернулся ко мне.
— Надеюсь, ты понял, что звонил сейчас мне. Я — Донатан Резоевич Чанкветадзе.
Он огляделся по сторонам, опять брезгливо поморщился — видимо, на этот раз ему здорово не понравилось место моего пребывания.
— Я забираю тебя с собой. Поехали, — сказал он и пошел к выходу, даже не оглянувшись: был уверен, что я последую за ним.
Больше он ничего не говорил и не спрашивал. Со временем я привык к способности этого человека оценивать любую ситуацию молниеносно, с одного взгляда.
Вообще-то к нему, к Дону, я испытываю весьма противоречивые чувства. Это непросто объяснить в двух словах, однако попытаюсь.
Дон годится мне в отцы. До начала всех этих реформ, которые и развалили благополучно тоталитарную систему, он был преподавателем истории в университете и жил, можно сказать, довольно сносно.
Для дельца он недурственно образован и вылощен. Если внимательно приглядеться, сквозь налет светской шелухи, сквозь то, что он на себя напускает, пытаясь сохранить начинающий увядать облик, можно обнаружить пытливый ум и беспомощный сарказм.
За это я его здорово уважаю, в некоторых случаях — боготворю, поскольку довольно часто он проявляет умение угадывать события на двадцать ходов вперед и чуть ли не читать мысли.
Кроме того, я его ненавижу — иногда. Потому что он, как мне кажется, может переступить через близкого человека, чтобы поднять ногу на очередную ступеньку своего благополучия.
А еще он не верит ни в какие проявления высоких чувств. Всегда опошлит и принизит до земного уровня, как сам он выражается — до уровня сточной канавы. За это я иногда готов его укокошить, ведь есть вещи, которых нельзя касаться, предварительно не мыв руки с душистым мылом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу