Матрос с медвежьей грацией предлагал следовать дальше. Девочка моргнула, возвращая мир на прежнее место.
Новость разлетелась в один миг. На корабле уже знали, что прибыла дочь капитана. Олечка Смурина, милости просим! Встречные матросы и офицеры вытягивались в струнку, козыряли. Олечка не отвечала, шла, опустив голову и пряча лицо в шарф. Ей хотелось уменьшиться до размеров блохи, но ничего не получалось. Пришлось шагать за урсом, показывающим дорогу.
Наверху, после лестницы на них наскочил старпом, загоготал, затараторил, предлагая Олечке свои услуги, хлопотал, спрашивал, не нужно ли ей чего, мгновенно, впрочем, распорядился, без её согласия, соорудить горячего чаю с лимоном.
– Погода-с! Нынче стыло, простудиться можно. Да-с, – сказал старпом. Олечка с трудом вспомнила, как его зовут: Тимофей Ярославич Ланжеронский. Он походил на рыбу с выпученными глазами, что не исключало его происхождения от «чешуйчатых»; так называли ихтильменов, живших когда-то в дельте Исети. Ихтильмены разделили участь всех коренных народов, закатанных под брусчатку с приходом цивилизации с её городами, паром и железом. Из урока истории Олечка помнила, что «чешуйчатым» дали выбор: быть истребленными подчистую или же ассимилироваться. Они выбрали второе.
Ланжеронский отпустил урса, подхватил чемоданчик с вещами Олечки и сам повел её в каюту капитана.
– Батюшка ваш звонил из Адмиралтейства, скоро, стало быть, прибудет, – сообщил старпом, сверкая рыбьими глазами своих предков. – Вы, барышня, располагайтесь. Все готово. Прямо как царица жить будете. Да-с. А уж диво разное в море увидите – до внуков рассказов хватит. Да-с.
Олечка терпела. Ланжеронский распахнул дверь капитанской каюты, приглашая внутрь. Девочка представляла себе это место чем-то вроде маленького матросского кубрика, но ошиблась. Тут было целых три комнаты, одна большая, две поменьше. Одну из тех двух и выделили ей. Ланжеронский суетился, показывал и рассказывал. Тут же принесли поднос: чайник, чашки, на блюдце нарезанный лимон, сахарницу с серебряной ложкой и три пирожных с масляным кремом.
– Откушайте, Ольга Семёновна, прошу-с. А вот колокольчик, чтобы вызвать помощника.
Олечка тут же с беспокойством спросила:
– Какого? – Очень уж ей не хотелось того благоухающего матроса.
Ланжеронский взял колокольчик и позвонил. Явился юнга, прилизанный, в форме со сверкающими пуговицами, на вид лет четырнадцать. Такой вышколенный, что Олечке стало его жаль.
– Прошу любить и жаловать, да-с. Федор Максимович Хомутов. Обязуется выполнять все ваши приказания, – сказал старпом.
– Ручку! – юным голосом потребовал Хомутов немедленно у ошеломленной Олечки. Она дала ручку, юнга истово поцеловал её по всем правилам и снова вытянулся во фрунт. В двенадцать лет капитанской дочке еще никогда не оказывали таких знаков внимания. Словно она большая.
Ланжеронский и юнга ждали приказов.
– Пока идите, – велела Олечка, смутившись. Хомутова точно ветром сдуло, а Ланжеронский раскланивался ещё долго, пока не исчез за дверью.
После этого девочка села на стул и хотела заплакать. Она слышала тихий гул из-под пола и чувствовала едва заметную вибрацию. Дредноут, механический монстр, готовился к отплытию.
Слезы так и не появились. Олечка подошла к кровати, осторожно легла на неё, на бок, и свернулась калачиком.
Капитан Семён Федорович Смурин явился вскоре. Обнял дочь, четко, по-военному, осведомился, хорошо ли она устроилась, дыша на неё табаком и котлетами, которые откушивал где-то не так давно. Олечка просто обняла его и сказала, что все в порядке. Вместе они попили чаю, остывшего. Потом отправились на капитанский мостик, чтобы Олечка могла посмотреть на отплытие.
Идти было страшно. Девочка плелась за отцом, поднималась по ступеням, пока не вошла в святая святых корабля. Тут за штурвалом стоял громадный урс-рулевой, и блестели начищенные латунные трубки, в которые офицеры периодически кричали непонятные заклинания.
Капитан отдал несколько приказов. Ему доложили, что всё готово, можно отдавать швартовы. Смурин торжествующе посмотрел на Олечку и махнул рукой. На носу «Кыштыма» загрохотали цепи, поднимающие якоря. В глубине корабельной утробы заработали паровые турбины, под кормой завертелись движители. Зачадили трубы, выбрасывающие в небо над гаванью Катинграда черный угольный дым.
Олечка приложила ладони к холодному стеклу и смотрела на пристань, где стояла редкая толпа провожающих. Некоторые женщины махали, но, в основном, люди стояли молча и неподвижно. Их даже трудно было как следует рассмотреть из-за висящей в воздухе водяной пыли. Олечка взглянула на город, может быть, в последний раз, и постаралась запомнить все доступные ей детали. Но Катинград словно не хотел оставаться в её памяти таким и настойчиво прятался за мокрой завесой.
Читать дальше






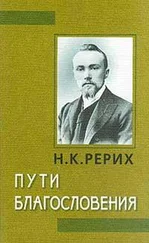


![Николай Желунов - Сердце Сумрака [litres]](/books/404049/nikolaj-zhelunov-serdce-sumraka-litres-thumb.webp)


