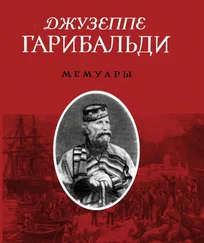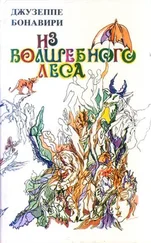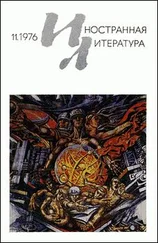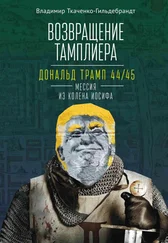Он пришел в себя, только когда услышал, что оркестр заиграл новое сочинение. Низкие, мрачные ноты, за которыми следовали обрывистые звуки скрипок и литавр, вводивших могучий, драматический и грозный хор:
Requiem aetemam dona eis, Domine.
Et lux prepetua luceat eis.
Те decet hymnus, Deus, in Sion,
Et tibi reddetur votum in Jerusalem. [8] Вечный покой даруй им, Господи, вечный свет да воссияет им. Тебе подобают гимны, Господь, в Сионе, Тебе возносят молитвы в Иерусалиме… (лат.)
Это был легендарный незавершенный «Реквием» Моцарта. «Масона, как и Пиранези», — отметил про себя Джакомо.
Он снова отодвинул мягкий красный бархат и посмотрел в зал.
Теперь сцена была занята огромным оркестром, над которым в глубине находился смешанный хор. На авансцене возле подиума дирижера стояли четверо солистов — сопрано, контральто, тенор и бас.
После возвышенного Kyrie и короткого пролога Sequentia хор и оркестр начали исполнять могучий Dies irae. Весь зал был заполнен мощной вибрацией звуков, словно к ним присоединились и другие голоса, исходившие из разных концов зала.
Dies irae, dies illa
Solvet saeculum in favilla,
Teste David cum Sibylla… [9] День гнева — тот день расточит вселенную во прах: так свидетельствуют Давид и Сивилла (лат.).
Джакомо стоял, молитвенно сложив руки, опираясь о косяк входной двери и касаясь плечами шторы. Он не решался двинуться с места, чтобы никоим образом не разорвать осязаемую, напряженную тишину, стоявшую в партере и словно возносившуюся до самого верхнего яруса. Собственно, он никуда и не мог бы пройти, потому что театр выглядел буквально набитым.
Однако, привыкнув к полумраку, Джакомо вдруг обнаружил поразительную особенность. Публика, вся без малейшего исключения, состояла только из женщин. Тут были женщины всех возрастов — об этом говорил цвет волос на неподвижных головах в рядах партера. Женщины сидели и в ложах, многие смотрели на музыкантов в бинокль.
Возможно, тут была Анна или девушка, похожая на Анну.
Какое-то мрачное опасение охватило Джакомо, когда он понял вдруг, что его присутствие — единственного мужчины в зале — было замечено. И лица, которые стали оборачиваться к нему, выражали не удивление, а неудовольствие, укор, осуждение. Лица осунувшиеся, мертвенные, как у призраков, — может быть, из-за мрака, в котором даже самый слабый источник света ярко сиял.
Смертный мрак, отметил Джакомо, чувствуя себя осквернителем некоего траурного ритуала, трагической и загадочной похоронной церемонии, ужасной, как и слова, которые неожиданно донеслись со сцены:
Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca те cum benedictis. [10] Ниспровергнув злословивших, приговоренных горсть в огне, призови меня с благословенными… (лат.)
Положение становилось невыносимым. Джакомо решил уйти и только ждал подходящего момента, как вдруг все внезапно изменилось.
Как только зазвучала Lacrimosa dies illa , [11] Слезный будет тот день (лат.).
которую после смерти Моцарта завершил его ученик Франц Ксавьер Сюзмайер, как и финал сочинения, в воздухе возникло что-то вроде легкого снегопада.
Это осыпался мелкий строительный мусор. Вскоре крошево посыпалось сильнее, не пощадив никого. Оркестр продолжал играть, а музыканты и певцы быстро покрывались чем-то белым. То же самое происходило и со зрительницами как в партере, так и в ложах.
Создавалось какое-то нереальное впечатление, будто концерт исполняется на открытом воздухе во время неожиданного снегопада. Однако никто не вставал с места и не говорил ни слова, будто ничего не замечая.
Джакомо взглянул на потолок и увидел, что в центре его нет привычной огромной люстры, и с него принялась слетать побелка, посыпался мелкий строительный мусор, а затем и сам потолок стал как бы исчезать: обнажились балки, появились трещины, образовались проемы, пропускавшие сумеречный розовый свет.
Театр медленно рушился.
Джакомо отступил, ища укрытия за тяжелой шторой.
Музыка внезапно оборвалась, и наступило непроницаемое белое безмолвие.
Все было кончено. Чья-то рука тронула Джакомо за плечо. Он обернулся и увидел Уайта, смотревшего на него с добродушным любопытством.
Только тут Джакомо понял, что огромная штора — это всего лишь занавеска из грубого холста, куска старой мешковины.
Он отодвинул ее: крыши не было, а партер, заваленный всяким хламом и мусором, находился в совершенном запустении. Кресел тоже не оказалось, от них осталось лишь несколько рядов заржавевших креплений. Сцена представляла собой небольшой помост, сколоченный из плохо пригнанных пыльных досок, возле которого равнодушно бродила небольшая рыжая собака.
Читать дальше