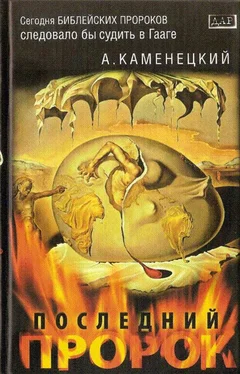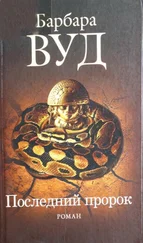— Знаете, — тихо, после долгой паузы, ответил Жан-Эдерн, — в пятнадцать лет я остался сиротой. Без гроша в кармане. В восемнадцать пошел в армию. В двадцать пять вступил в Иностранный легион. И провел там девятнадцать с половиной лет. Я был профессиональным наемником, господа. И очень много повидал, еще больше испытал на своей шкуре. Мне приходилось убивать, не раз и не два. Все мои боевые друзья давно лежат в земле. Я приехал в Хаммарат последней падалью. И единственный человек, которому я оказался нужен, кроме бабушки, был Мохаммед Курбан. Я никогда не забуду то, что он для меня сделал. А насчет того, что я вам сейчас наплел… не думайте об этом слишком серьезно. Чтобы понимать такие вещи, нужно прожить мою жизнь… не вашу. Кстати, завтра его похороны. Вы тоже можете прийти.
Таня не пускала меня и была во всем права. Мне нечего было делать на этих похоронах, но я пошел. Страшно поскандалил с женой и все-таки пошел. Зачем? Может, простое любопытство, не знаю. И еще: не хотел, чтобы Жан-Эдерн посчитал меня трусом. Трусливым туристом. Хотя им я, в сущности, и был, кем же еще.
Скрепя сердце одолжил Гюнтеру свою камеру — бедняга должен был работать. Цифровой Canon IXUS V3 (3,2 мегапикселя, 16 мегабайт флеш-карта, 550 долларов — купил перед самой поездкой, давно мечтал). Ничем не хуже трагически погибшего «Ролляй». Немец слезно благодарил, качал головой, удивлялся как дитя: круто. Он оказался неплохим малым, я напрасно о нем так гадко вначале думал. По дороге, заклеенный пластырем, еще в себя не пришедший, принялся жаловаться на жизнь, тряс рыжей гривой, обращаясь ко мне почему-то:
— Понимаешь, фройнд, я ведь сам с Востока, из Ляйп-цига. Полжизни прожил при Хонеккере. Думаешь, было так плохо? В чем-то плохо, конечно, но все имели работу. И получал солидно. Но мы на Запад смотрели, только о Западе и думали. Когда разрушили стену, я лично плакал от радости, и многие плакали. Верили: теперь все будет по-новому. Свобода, демократия… А вышло как? Вот смотри: работы на Востоке почти нет. Но те, кто работает, все равно получает меньше, чем на Западе. На двадцать процентов меньше! Кто может, едет сейчас в Гамбург, в Берлин, в Баварию… Многие приезжают к семье только на уик-энд. А кто нас ждал на Западе? Они там себя называют «весси», а нас — «осей». «Восточные», второй сорт. Знаешь, сколько я искал нормальную работу? Четыре года! Сейчас, конечно, жаловаться не на что, но все равно тяжело. Налоги, страховки, квартплата, телефон, еще рассрочки, если что-то купил в кредит… Остается треть. Работать вообще, если разобраться, невыгодно. У меня друзья годами сидят на пособии, а получают ненамного меньше, чем я. И никто не верит, что будет лучше. Многие уезжают — в Данию, в Швецию, в Италию, во Францию… Шредер и Йошка после выборов всех обманут, вот увидишь. Что они могут сделать, если у нас внешний долг — какая-то цифра, забыл, а к ней — двенадцать нулей?! А русские эмигранты едут и едут, думают, в Германии — рай. Знаешь, что у нас пишут на стенах тинейджеры?
— Наверное, «хайль Гитлер»? — предположил я.
— Ничего подобного! — осклабился Гюнтер. — Они пишут: «Nie wieder Deutschland» — «No more Germany», вот что…
— А как ты сюда попал? — Представитель цивилизованного мира выглядел из рук вон, я ему сочувствовал.
— Послали снять пару красивых картинок для курортного раздела…
— Думаете, снимки, из-за которых вас чуть не убили, могут привлечь туристов в нашу страну? — мрачно поинтересовался Жан-Эдерн, и Гюнтер сразу втянул голову в плечи, примолк.
Жан-Эдерн шагал рядом, серьезный и сосредоточенный. Европейский строгий костюм черного цвета, туфли по-военному начищены, выправка. Оружие взял с собой — кожаная кобура под мышкой. Шел молча, в глазах — тревога. Похороны должны были состояться на старом кладбище, у моря. Этому кладбищу, говорят, около двух тысяч лет. Останки римских легионеров зарыты в каменистую неподатливую почву. Кладбище: поросшая редкой жухлой травой долина с белыми вертикальными плитами памятников. Жан-Эдерн сказал: священное место. Считается, что с этого кладбища душа мусульманина отправляется прямо в рай. Долина сбегает к самой воде, на берегу сохнут перевернутые рыбачьи лодки. По одной из них лупил молотком загорелый рыбак в оранжевом грязном жилете. Вколачивал длинный гвоздь. Чуть повыше, на пригорке, стоял раньше храм Юпитера. Теперь на его фундаменте — мечеть Сиди-Окба. Непритязательное, крашенное известкой здание без росписи и мозаик, куб под приплюснутым куполом и низенький толстый минарет. Мечеть построили специально для Сиди-Аб-дель-Кадера, он там молился и проповедовал. Немусульманам входить туда запрещено. Еще издали мы увидели, что мечеть плотно окружена толпой. Дервиши в своих белых халатах — сотни, может быть, полторы. Не меньше — берберов в их странных головных уборах. Голова и торс крепко замотаны в ткань, сверху — полотняная грубая накидка. Под таким нарядом можно спрятать, наверное, гранатомет. Кроме берберов и дервишей — черт знает сколько зевак и незевак. Отдельно, за полицейским кордоном, — люди в европейской одежде. По сравнению с толпой их горстка. Я заметил черный «ягуар» Юсуфа Курбана. Много полиции: парни в зеленом и в черном. Черные, насколько я понял, — спецназ. Спецназовцев меньше. Стоят в тенечке, у стены, курят, переминаются с ноги на ногу. Короткие блестящие автоматы на плече, с откидным прикладом. У обычной, зеленой полиции — пистолеты и дубинки.
Читать дальше