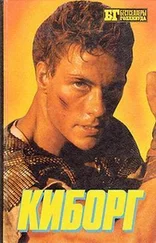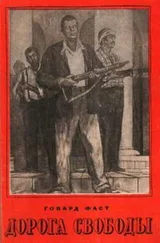— Нет. Я никогда его не видел.
— Жалко, жалко, что ни вы, ни ваш мистер Камедей, ни мэр, ни прочие важные лица, о которых вы мне рассказали, ни разу не встречались лично с Алексом Хортоном, потому что, поймите, Алекс Хортон не мог сделать бомбу. Потому что его переполнял страх. Это и была связующая нить между нами, Клэнси, нить, соединявшая меня с Алексом Хортоном, — общность восприятия страха; когда мы выяснили, что каждый из нас по отдельности обладает этим ощущением, мы на какое-то время стали духовно близки. Близки не так, как я подумала, что мы с вами стали близки, Клэнси; близки по-другому. Близки не так, как могут быть близки мужчина и женщина. Он не был мужчиной в таком смысле, но нам обоим оказалось знакомо чувство страха. Мы оба прожили жизнь, где все время присутствовал страх: не опасность, Клэнси, нас подстерегал именно страх. Вы понимаете, что я хочу сказать?
— Похоже, да.
— Вот почему он не мог изготовить атомную бомбу, и я не слишком верю в эти атомные бомбы вообще. Не знаю, как насчет вашего московского профессора Симоновского, но если это человек по складу ума такой же, как Хортон, то он тоже не способен изготовить бомбу. Но если вам, Клэнси, предстоит удостовериться в моей правоте, во что превратится ваша миссия, ваш героизм и готовность пожертвовать мною, Филлис Гольдмарк?
— Я никогда не считал и не говорил, что вами нужно пожертвовать, и вы это знаете.
— Разве, Клэнси, я что-нибудь знаю? Я почти ничего не знаю. Но думаю, что знаю больше вашего. Если человеческой любовью можно пренебречь, то что же тогда ценно? Если можно пренебречь человеческой надеждой на рай? Клэнси, когда я была маленькой, мы с мамой уехали на две недели в пансионат в Кэтскиллоских горах. Я выбрала себе гору и лазила на нее одна. Не думаю, что это была бог весть какая гора, но для меня это был великий подвиг: самой покорить гору. И когда я добралась до вершины, когда встала там и мир оказался у моих ног, я почувствовала себя на пороге рая. Поняли, Клэнси? Вот так я чувствовала себя, когда решила, что вы меня любите.
Сказать было нечего, и я ничего не сказал. Я ехал в центр, следя за светофорами, за потоком машин, за мокрой от дождя мостовой, и попытался сосредоточиться на своих мыслях и чувствах, на своих личных качествах, воплотившихся в работе, вдруг оказавшейся бесцельной и ненужной. Не так уж трудно быть героем, но стать развенчанным героем труднее всего на свете. Я мог позволить себе дерзить и нагло разговаривать с Камедеем, пренебрежительно высмеивать американского сенатора, беседовать на равных с мэром города Нью-Йорка. Я мог даже позволить себе беспечно разгуливать по городу, зная, что два кретина, Джеки и мистер Браун, ходят за мной по пятам с пистолетом, мог уговорить себя, что мне на них наплевать, и не обращать на них ни малейшего внимания. Я, человек по имени Томас Клэнси, храбрый, отчаянный и в то же время с подавленной психикой, мог, невзирая на депрессию и жалость к самому себе, построить в уме автопортрет, отвечающий всем позитивным стереотипам, лелеемым любым четырнадцатилетним американским мальчиком. Мне даже не было до конца понятно, как это Филлис сумела развенчать этот стереотип и свести меня с пьедестала, просто и аккуратно, без злости и без желания оскорбить или унизить. Но она сумела это сделать — с успехом. А теперь я еду в центр, в отель «Билтмор», где Дмитрий Гришев снимает «люкс», и там мы с ним попробуем извлечь из Филлис то, чего она не знает. И это будет нашим великим подвигом во имя спасения человечества от Петра Симоновского и Алекса Хортона. Просто все вдруг стало бессмысленной детской забавой, и я дошел до того, что счел Гришева столь же мелкой личностью, как и себя самого.
Пока я не поставил машину на стоянку, Филлис не проронила ни слова: но когда мы уже входили в отель, она тихо и с любопытством, как будто мы всю дорогу вели оживленную беседу, спросила, верую ли я в Бога.
— Разве можно спрашивать такое?
— А разве нельзя спрашивать о чем угодно того, кого любишь? А как, Клэнси, насчет вашего друга Дмитрия Гришева? Для него вера является чем-то антисоветским или просто пороком?
— А вы веруете в Бога, Филлис?
— При условии, что Бог — женщина, — ответила Филлис с улыбкой. Когда мы зашли в лифт, она взяла меня за руку: не ослабляя пожатия, она глядела на меня и улыбалась. Было так приятно видеть улыбку на ее лице. Когда она улыбалась, лицо ее преображалось, становилось необычным, неповторимым, прекрасным. — Клэнси, — продолжала она, — вы прекрасный человек. И очень храбрый. Я не хотела вас обидеть.
Читать дальше

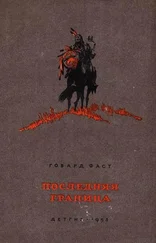
![Говард Фаст - Подвиг Сакко и Ванцетти [Легенда Новой Англии]](/books/24319/govard-fast-podvig-sakko-i-vancetti-legenda-novoj-thumb.webp)

![Говард Фаст - Муравейник Хеллстрома.[Херберт Ф. Муравейник Хеллстрома. Фаст Г. Рассказы]](/books/84780/govard-fast-muravejnik-hellstroma-herbert-f-mura-thumb.webp)