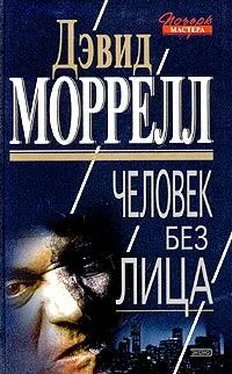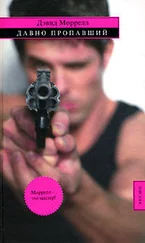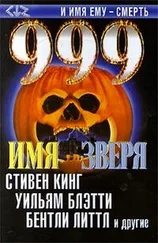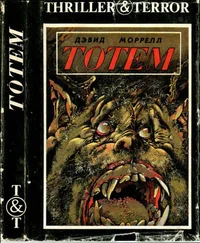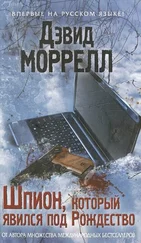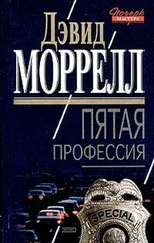Получилось так, что Бьюкенена подолгу не было в камере, и набрасывались на него не сокамерники, а тюремщики. Пока он шел под охраной из камеры в комнату для допросов, его толкали, ставили ему подножки и спускали его с лестницы. Во время допроса в него тыкали дубинками, его били резиновыми шлангами — всегда по тем частям тела, где под одеждой не будет видно синяков, и никогда по лицу или голове. Бьюкенен не знал, почему те, кто его допрашивал, соблюдали такую тонкость. Может быть, потому, что он был гражданином США и боязнь возможных политических осложнений вынуждала их как-то сдерживаться. Тем не менее им все-таки удалось добиться, чтобы он ударился головой о цементный пол, когда опрокинули стул, к которому он был привязан. Новая боль в сочетании со старой — от раны, полученной при ударе о шлюпку, когда он переплывал пролив, — вызвала у него приступ тошноты и неприятное двоение в глазах. Если бы в тюрьме Мериды врач не обработал еще раз рану и не наложил новые швы, он бы, по всей вероятности, уже умер от заражения и потери крови, хотя врача ему дали, разумеется, не из соображений гуманности, а просто рассудили практически, что мертвец не смог бы отвечать на вопросы. Бьюкенену уже приходилось встречаться с подобной логикой, и он знал, что если бы те, кто его допрашивал, получили желаемые ответы, то не стали бы больше утруждать себя оказанием ему медицинских услуг.
Это и было одной из причин — наименее важной, — почему он отказывался дать показания, которых добивались от него следователи. Главной же причиной было, конечно, то, что признание являлось бы нарушением профессиональной этики. Отказываясь говорить, Бьюкенен получал тройное преимущество. Во-первых, его мучители прибегали к грубым силовым методам, сопротивляться которым было легче, чем, например, применению электрошока в сочетании с такими растормаживающими средствами, как амитал натрия. Во-вторых, он уже и так был ослаблен ранами на голове и в плече, поэтому быстро терял сознание во время пытки, то есть сам организм проводил что-то вроде естественной анестезии.
А в-третьих, у него был текст, которому он должен был следовать, роль, которую должен был играть, сценарий, который диктовал ему линию поведения. Основное правило гласило, что в случае ареста он ни в коем случае не должен говорить правду. Конечно, ему разрешалось использовать какие-то детали, чтобы успешнее сфабриковать правдоподобную легенду. Но обо всей правде не могло быть и речи. Если он скажет: да, действительно, он убил тех троих мексиканцев, но это ведь были как-никак торговцы наркотиками, а кроме того, он глубоко законспирированный агент секретной службы американской армии, — то этим на какое-то время спасет свою жизнь. Однако такая жизнь немногого будет стоить. Если здешние власти захотят проучить Соединенные Штаты за вмешательство в мексиканские дела, то его могут приговорить к длительной отсидке, а если учесть строгость режима содержания в мексиканских тюрьмах, особенно для yanquis , то такой приговор, по всей вероятности, будет равносилен смертному. Или если Мексика сделает жест доброй воли и вышлет его в Соединенные Штаты (в обмен на что-то), то его начальство превратит его жизнь в кошмарный сон.
— Виктор Грант, — сказал Бьюкенену тучный бородатый следователь с гладко зачесанными назад волосами. Они находились в маленькой голой комнатушке, где из всей обстановки имелась лишь скамья, на которой сидел сам следователь, и стул, к которому был привязан Бьюкенен. Круглолицый, обливающийся потом следователь произнес это имя так, будто оно было синонимом слова «понос».
— Совершенно верно. — В горле у Бьюкенена так пересохло, что голос стал ломким, а весь организм был настолько обезвожен, что он давно уже перестал потеть. Одна из тугих петель веревки врезалась ему в зашитую рану на плече.
— Говори по-испански, подонок!
— Но я не знаю испанского. — Бьюкенен перевел дух. — Во всяком случае, не знаю достаточно хорошо. — Он попытался сделать глотательное движение. — Просто несколько слов. — Незнание испанского было одной из черт, которыми он наделил этот персонаж. Так он всегда может притвориться, что не понимает, о чем его спрашивают.
— Cabrón , ты же говорил по-испански с офицером эмиграционной службы в аэропорту Мериды!
— Да какой это испанский! — Бьюкенен опустил голову. — Пара простых фраз. То, что я называю «испанский для выживания».
— Для выживания? — переспросил басом охранник, стоявший за спиной Бьюкенена, потом схватил его за волосы и рывком поднял ему голову. — Если не хочешь, чтобы я выдрал тебе волосы, то будешь для выживания говорить по-испански.
Читать дальше