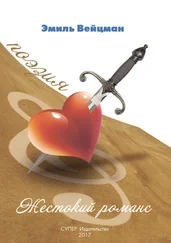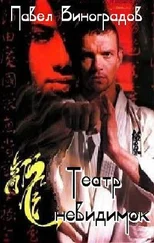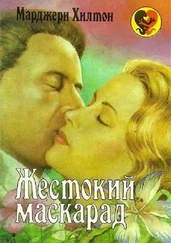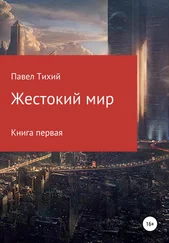Но паника уже обдала чекиста ледяной волной. Вопреки всему он знал, что в комнате был кто-то ещё! Рукавишников приподнялся на постели и осторожно поставил ноги на пол. Навощенный паркет неприятно лип к коже стоп. Ветер за окном ревел, как неприкаянные души в аду, но в комнате царила удушающая тишина. Генерал чувствовал себя дичью, в которую целится охотник.
Неожиданно в нём проснулась ярость — он всё-таки был офицером. Резко вскочив, потянулся, было, к ящику тумбочки, где с некоторых пор всегда лежал заряженный ПС. Но вытащить его не успел. Тьма в углу вздулась, оказалась рядом, и шею Владимира Евсеевича сдавила непреложная, как объятие анаконды, сила.
— Накагава-рю, — раздался странный высокий голос.
Последнее, что услышал в мире сём генерал-майор КГБ Рукавишников, был хруст собственной сломанной шеи.
Ослепительная молния за мгновение высветила на фоне окна чёрный силуэт. Гром грянул, словно лопнули небеса. Невысокая гибкая фигура канула во вновь наставшей тьме. Хлынул ливень.
* * *
Ниндзюцу — это я. Моя жизнь и смерть. Это первое, что внушили мне в этом мире, и это последнее, о чём я подумаю перед смертью. По крайней мере, так должно быть. А что такое ниндзюцу? Боль и страх, и их преодоление. Преодолевать было моим главным занятием, сколько себя помню, и даже раньше. Родители, невзирая на истошные младенческие вопли, раскачивали мою подвешенную к потолку колыбель, чтобы она билась о стены. Это учило меня сжиматься перед ударом, смягчать его, концентрироваться — избегать боли. А боль, испытанную в три года, когда дед вынимал мне суставы, я помню как яркую вспышку. Теперь могу складываться, как кошка, пролезая в узкую щель, удлинять руки во время драки. Чуть меньше была боль, когда отец регулярно накатывал меня гранёной палкой. К этому времени знание того, что ни кричать, ни плакать нельзя, уже вошло в меня, а через несколько лет всё моё тело покрыл тонкий корсет из плоти, и любая боль стала глухой и далёкой. Потом меня учили мантрам и мудрам. Монотонные речитативы и замысловатые фигуры из пальцев давали многое, но главное — подавляли страх и боль. И дед, и отец всегда говорили, что только эти двое истинные враги нас, синоби, людей ниндзюцу.
После нескольких часов неподвижного стояния под лесным водопадом, тяжёлые струи которого непрерывно падали на макушку, мы — я и мир — становились иными. Когда мне было десять, то отец, то дед заставляли меня взбираться на крутые утёсы и сталкивали с высоты двух десятков метров. Мне нужно было сделать в воздухе пять-шесть сальто, чтобы приземлиться на ноги без повреждений. Иногда это удавалось. Мои травмы лечил дед. Кости срастались очень быстро.
Как-то мы с отцом прокрались в ближнюю деревню, где была богатая по тем временам усадьба, и проникли в амбар. Отец заставил залезть в какой-то ящик и закрыл его на замок. Там было темно и тесно, очень хотелось чихнуть, но надо было терпеть. И вдруг отец заорал: «Воры! Воры!» Потрясение обрушилось на меня, но не заставило кричать и пытаться вырваться. Через пару минут ворвались старик-хозяин и его дюжие сыновья с топорами и кольями. Отца, конечно, в амбаре уже не было. Они обыскали всё, но в ящик не заглянули. Это было плохо. Тогда я стал бешено колотиться, они открыли замок и откинули крышку. Подпрыгнуть из положения сидя и, сделав сальто, броситься бежать оказалось не трудно. Они неслись за мной с воплями, и было похоже, что вот-вот догонят. При виде колодца само явилось решение бросить туда большой камень. Сильный всплеск послышался за спиной. Эти олухи, конечно, стали искать меня в колодце. Мой рёв дома был совсем детским, недостойным синоби: «Папа, папа, как ты мог?!» Он молчал.
Вошёл дед и сел на татами. Мы с отцом упали перед ним ниц, а он отослал отца и пригласил меня сесть напротив. Достав из рукава кимоно окованный золотом футляр, он приложился к нему лбом и осторожно извлёк ветхий свиток. «Теперь для тебя начинается настоящее обучение ниндзя», — сказал он.
Дед и отец растворились в сущем, а на мне лежит священная обязанность мести и возрождения клана. Потому что я — ниндзя, и это навсегда.
* * *
Лет двадцать назад столица поглотила прозябавший тут посёлок, но парадоксальным образом район сумел сохранить в унылых кварталах новостроек частицу души старой Москвы. То за рядами бетонных «коробок» мелькнёт лишённая купола колокольня церковки конца прошлого века. То поразит изяществом кирпичная водонапорная башня. То пахнёт из дверей кондитерской экзотическим ароматом китайского чая и марципановыми пирожными.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу