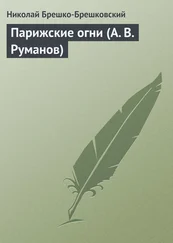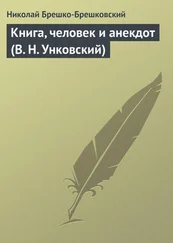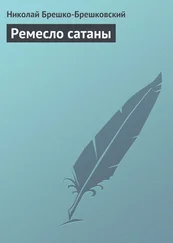– Малейшее движение – и я пристрелю вас! Руки вверх, и так идите впереди, да скорей, потому что у меня очень мало свободного времени.
Лейтенант повиновался, забыв надеть свой красный кивер, гигантским полевым цветком алевший на траве. Темные напомаженные волосы, несколько минут назад прилизанные так тщательно, с великолепным пробором, теперь взлохматились космами. Выбритое лицо отливало бархатной синевой. Черные усики. Шаблонная гусарская красота, не лишенная, однако, породистости.
Итак, они возвращались назад. Лейтенант бежал с поднятыми руками, а в нескольких шагах от него легким «тротом» поспевал Загорский на своем Лузиньяне, держа револьвер.
На пути гусар, придавленный убитой лошадью, никак не мог высвободить ногу. Увидев это шествие, как конный русский солдат, спешив, конвоирует его лейтенанта, венгр начал отстегивать у своего седла карабин.
Загорский спокойно молвил офицеру:
– Прикажите вашему нижнему чину не стрелять. Пока он выстрелит в меня, я уже успею вас уложить. Самое лучшее помогите ему выкарабкаться из-под лошади и пусть он идет вместе с нами.
Лейтенант прокричал что-то по-венгерски ущемленному лошадиной тушей всаднику. Тот, блеснув глазами, ответил коротким восклицанием и перестал возиться с карабином.
Загорский подъехал вплотную; лейтенант, гневный от унижения, ворча сквозь стиснутые зубы и, вероятно, призывая на голову русского всевозможные проклятия, вызволил своего гусара. Шествие продолжалось уже втроем.
Вскоре подоспели навстречу на взмыленных лошадях три гусара с пиками. Четвертый, подобрав по дороге раненного Загорским в спину мадьяра и перекинув его через седло, вернулся с ним в штаб.
Когда гусары окружили обоих пленников, Загорский с усмешкой щелкал впустую, нажимая спуск своего револьвера.
Он пояснил лейтенанту:
– Ваш гусар мог подстрелить меня.
Лейтенант взвыл от бешенства. Волчьим взглядом сверкнули темные, узкие, чуточку монгольские глаза.
Возвращались, был уже вечер. Отгорал теплый пепельно-розовый июльский закат. Соседний лес дышал густым (таким густым – на вкус чувствуешь!) ароматом смолы и еще чего-то. Сонно перекликались птицы, сгущался сумрак под сенью деревьев.
Щеголеватый, в дорогой, отороченной мерлушками венгерке, лейтенант, шагая между потными, разгоряченными лошадьми, с морд которых падала пена белыми клочьями, отказывался понимать – до того с кинематографической быстротой мелькали события. Всего два дня назад в Будапеште давал он прощальный обед, хвалился грядущими подвигами, затем догнал ушедший на границу полк, шутя вызвался в первую свою разведку – и вот он уже в плену, в русском плену, и шагает, измученный, весь ноющий от падения, шагает неизвестно куда… и какие еще там ждут его ужасы?
А в штабе ликование. Это – первые пленные Черноградского гусарского полка. Допрашивал сам Пехтеев. С лейтенантом говорил по-французски.
– Ваша фамилия?
– Граф Арпад Тисса.
Ого! Все переглянулись кругом.
– Венгерский премьер ваш однофамилец?
– Я его родной племянник.
– Племянник венгерского премьера, это уже совсем шикарно!
На вопросы, которые выяснили бы неприятельские силы и расположение частей, граф Тисса либо отвечал уклончиво, либо совсем не отвечал.
Он встретил джентльменское отношение. Он принял участие в офицерском ужине под председательством полкового командира.
Пехтеев говорил с Тиссою о Будапеште, о красавицах венгерках, и было впечатление светской болтовни людей хорошего общества. После этого перспектива плена уже не казалась графу такой кошмарной. Он совсем повеселел, когда к концу ужина ему был доставлен поднятый нашими гусарами в поле его красный кивер.
Новенькое, с иголочки, строевое седло Тиссы Загорский в виде трофея поднес Пехтееву и был за это сердечно обнят полковым командиром. Да и не только за это. Пехтеев от души поздравил его с подвигом и в самой лестной реляции представил к Георгиевскому кресту четвертой степени.
1. В когтях аббата Манеги
Мраморный, весь проросший зеленым, влажным мохом фонтан журчал посредине квадратного дворика, и черная резкая лунная тень падала на каменные плиты.
Яркий месяц на ущербе отточенным, холодно-золотистым лезвием горел в темных небесах. Силуэты четырех пальм в каждом углу дворика намечались как будто вырезанные из темного картона, и от них тоже падали резкие тени.
Бившая вверх алмазной пылью струя фонтана загоралась при свете месяца синевато-зеленоватой игрою, и, как вздохи из каменной груди надувшего щеки тритона, слышались немолчные всплески упругих, пенящихся зонтиком, ссыпающих алмазную пыль струй.
Читать дальше