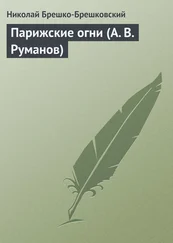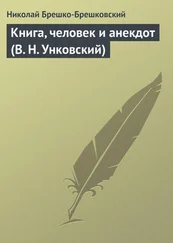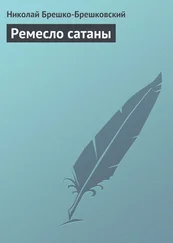Евгений Эрастович бранил Корещенко. Не за свою неудачу бранил, не за то, что Корещенко оказался менее простоватым, чем думал вначале Шацкий, а за то, что, имея большие миллионы, дающие возможность, пальцем о палец не ударяя, широко наслаждаться жизнью, он целые дни проводит на этой своей кузнице, грязный, лохматый, перепачканный весь. Кочегар!
Этого никак не мог вместить в голове своей Шацкий. Дай ему кончик этих миллионов, Евгений Эрастович блеснул бы таким великолепным dolce far niente [1] Сладкое ничегонеделание.
, – держись только!
В самом деле, Владимир Васильевич Корещенко был не совсем шаблонным человеком, в особенности принимая во внимание круг, к которому он принадлежал.
Этот круг – богатейшая купеческая семья, старая в купечестве, молодая – в дворянстве. Но сказочные средства, перед которыми открываются многие двери, за исключением самых чопорных, дали возможность мужским подрастающим поколениям Корещенко воспитываться в Лицее правоведения, а барышням выходить за дипломатов, камер-юнкеров, баронов и графов.
Корещенка тянуло в большой свет. Всех, за исключением Владимира. И когда мать его, тяготевшая весьма и весьма к заветным золоченым «верхам», желала перевести его из гимназии в лицей, он пришел в ужас.
Он так привык к свободе, к станку, на котором вечно выпиливал что-то, к своему гимнастическому мундиру, испачканному кислотами и разными химическими реактивами, что одна мысль о всех тех обязательствах, которые налагает лицейская форма, до скучных визитов включительно, одна эта мысль казалась ему пугающей, странной.
Избегая своих сестер, кузенов и кузин, бредящих титулами, он живет своей собственной жизнью, якшается с какими-то механиками, студентами, целые дни пропадает в Технологическом институте. А затем, после двух лет студенчества в Нанси, практикуется обыкновенным рабочим у Блерио, потом у Крезо и, наконец, в доках Марселя.
Он имел около двухсот тысяч дохода, а жил как студент. Единственной слабостью Владимира Васильевича были женщины. Здесь он изменял (и то лишь отчасти) своему демократизму опростившегося инженера. Он любил шикарных женщин не из снобизма, не из желания хвастать ими, нет, а для самого себя. Ему нравились женщины подкрашенные, пахнущие дорогими духами, нарядные, порочные, в тончайшем белье…
На своих подруг, которых он менял если не особенно часто, однако все же менял, Владимир Васильевич тратил большие деньги. Они одевались у лучших парижских портних, жили в роскошно обставленной квартире, имели обращающие внимание выезды, автомобили.
И странно было видеть его в экипаже или в ресторане вместе с женщиной. Вся она – последний крик моды. Шляпа в несколько сот франков, бриллианты… А он – в затрапезном пиджаке, дешевенький, повязанный криво галстук, копна волос, не признающая гребня, руки с траурными ногтями, – как не три их щетками, не отмоешь добела въедающихся в кожу следов грубой физической работы.
Ужинали, обедали где-нибудь в ресторане, подавались изысканные закуски, тонкие вина. Корещенко пил и ел, равнодушный ко всем этим «деликатесам», которые в его глазах были нисколько не лучше бутербродов, наскоро уничтожаемых в мастерской и запиваемых квасом или пивом.
Последней и самой продолжительной связью Корещенко – она тянулась несколько месяцев – была опереточная примадонна Искрицкая, та самая, которую на «семейном совете» решил взять себе в платонические содержанки Мисаил Григорьевич Айзенштадт, будущий Железноградов.
Шацкий, возвращаясь в город в грязно-фисташковом такси, вспомнил Искрицкую. Он шатался к ней в уборную на правах «рецензента».
Вот через кого необходимо попробовать найти кратчайшую дорогу к чертежам и вообще к секрету корещенковских «истребителей»! Через Искрицкую! А буде и она не поможет, остается механик Епифанов. Если этого наголодавшегося человека ошеломить заманчивой радугой из двадцати-тридцати «портретов» Екатерины Великой, кто знает, можно будет, пожалуй, столковаться. И наконец, самое крайнее, последнее средство – проникнуть в желанный шкаф на свой собственный риск и страх без всякой посторонней помощи. Вернее, с помощью надежных людей, опытных «профессоров», у которых на любую дверь, на любой самый хитроумный замок найдется свое заветное: «Сезам, отворись!»
Так думал Евгений Эрастович Шацкий, «подпоручик болгарской гвардейской конницы и журналист».
Он думал о том, что нет вообще безвыходных положений. Так и в данном случае. В конце концов, имеется в резерве Елена Матвеевна Лихолетьева. Перед ее высокопревосходительной волею этот дурачок спасует.
Читать дальше