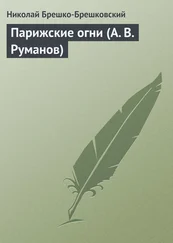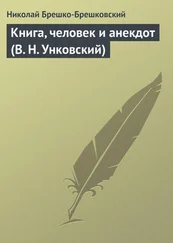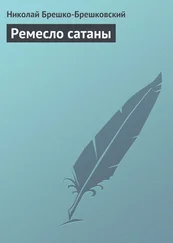А кругом – сонный и влажный запах ночного леса, леса густой темени, таинственных шорохов и как бы чьих-то подавленных вздохов…
Днем шел дождь, крупный, теплый дождь раннего, раннего лета. Вот почему дышал сыростью молодой буковый лес. Вот почему с потревоженных ветвей, как слезы, падали на голову большие, твердые капли и вот почему – это всегда после дождя – «вызвездило» столько светлячков.
И вправду – вызвездило. Вот они, куда ни глянешь, переливают синими, голубыми, зеленоватыми огоньками в траве. Совсем земные звездочки…
И, как странствующие звездочки-непоседы, как души маленьких лесных существ, летают они во тьме по всем направлениям.
Кавалеристы ловят их на рыси фуражками, и при свете такого ярко-лучистого жучка в самую темную ночь можно прочесть записку или телефонограмму.
И сонное дыхание леса, и светлячки, и рискованность предприятия – все это вместе создавало какую-то нервную повышенность настроению Загорского, наполняя чем-то хмельным, дерзким, ликующим… И, как никогда, хотелось жить, ощущать и впитывать в себя ее, эту загадочную, прекрасную жизнь… Он вспоминал стыдливо-истомные поцелуи пани Войцехович, вспоминал упругую теплую грудь под уютными складками провинциальной кофточки, но видел перед собою губы Веры и чувствовал близко ее грудь, такую невинную, белую, которой никто не касался губами. Никто, даже он – Загорский…
Пахнуло свежестью реки. Вот она внизу, тусклой, теряющейся во мгле полосой. И за этой полосой – неведомое, чужое, враждебное. На том берегу взвилась ракета и, описав огненную параболу и осветив, как вспышкой молнии, все вокруг, – упала. И вслед за этим, – словно кто невидимый быстро-быстро заколачивал гвозди, – сухой, короткий залп. Над головами просвистели две-три пули, и слышно было, как одна из них прошуршала в ветвях.
– Кто идет?
Несколько темных силуэтов словно из-под земли выросло.
Загорский дал пропуск штаба дивизии. Солдат снял фуражку чиркнул внутри ее спичкою, чтоб заслонить огонек от неприятельского берега, прочел записку.
– Так что вас трое?
– Трое!
– Ступай с Богом.
Двинулись вдоль берега. Шли в высокой, влажной траве. Шли с четверть версты. Сели в плоскую рыбачью лодку. Ее относило течением по диагонали.
Чужой берег, круто поднимавшийся в гору, зарос густым лозняком.
Тот, кто был в суконном пиджаке, прошептал:
– Мы так выведем пана ротмистра – ни одна собака не забрешет!
Поднялись на гребень. Прошли еще немного. Тут оба спутника внезапно бросились на Загорского, схватили его за руки, а «суконный пиджак» резко, пронзительно, совсем по-разбойничьи, свистнул. Пока Загорский отбивался, набежало несколько солдат и, стиснув его, скрутили за спиною руки, обыскали, отняли револьвер и потащили за собою.
Западня, самая грубая западня! И как это он пошел на удочку, поверил?! И теперь ему казалось, что и тогда, когда он выслушивал этих каналий, было ясно как Божий день, что они его продадут. Но зачем, какой смысл? Им обещана тысяча, неужели здесь дадут больше?
Его вели долго, и, так как руки были не свободны, он спотыкался. Конвоиры перебрасывались между собою непонятными пленнику мадьярскими фразами. Хотя он не видел солдат, он чувствовал смуглых, скуластых, черноволосых венгров, – так от них пахло острым и крепким потом, и дешевой помадой. Венгерцы все, от аристократа до мужика, любят помадить волосы… Только на войне возможна такая резкая смена впечатлений, только война так играет людьми. Полчаса назад он был у себя, среди своих, свободный и сильный. Кругом трепетали холодными огоньками светлячки, а теперь он весь во власти врага, который может его унизить, заживо сгноить в сырой тюрьме, где капает с потолка сырая слизь, может расстрелять, повесить…
Будь руки свободны, Загорский первым делом сорвал бы наклеенные усы, – таким жалким, лишним, оскорбительным маскарадом казалось это теперь.
А негодяев-предателей и след простыл. Вероятно, побежали вперед похвастать, какого им дурака повезло из него сделать.
Вот уже действительно околпачили!
И все это было так мерзко и гнусно, что он заставлял себя не думать ни о чем, и единственным ощущением были – усы, эти проклятые усы! И как это не сорвали их во время свалки, потому что, охваченный бешенством, он отбивался, пуская в ход и кулаки и ноги по всем правилам бокса, как учил его Лусталло, уже погибший на западном фронте, защищая свою дорогую Францию.
Долго шли.
Вот, наконец, и Залещики, и чем ближе штаб, тем оживленней. Какой-то нечистою силою проносятся мимо, с белым снопом света впереди себя, мотоциклетчики. Автомобили, конные ординарцы, пешие патрули…
Читать дальше