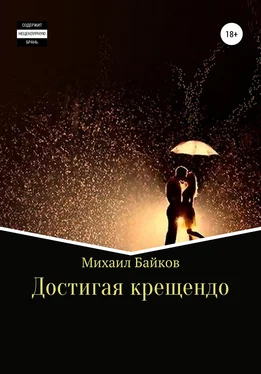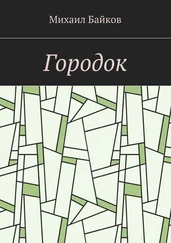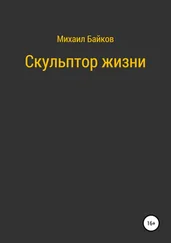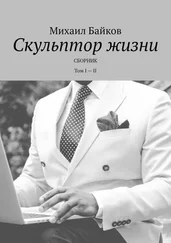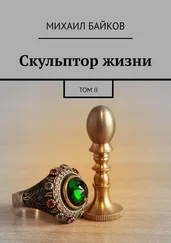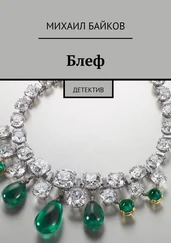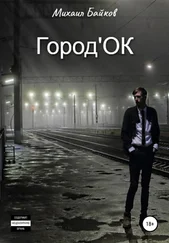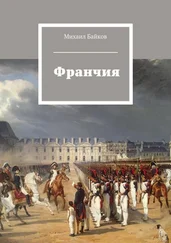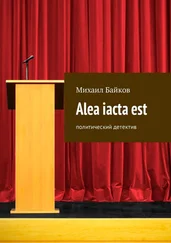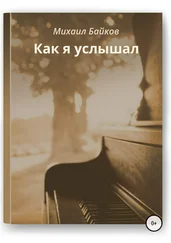– Нет причин жаловаться. Ваш «переворот» я встретил на Садовом, а комендантские часы переживал в монастырях… Лекции правда мои не состоялись, но это даже к лучшему. Трудно говорить с русскими семинаристами, многие из которых старше меня… Любят спорить о жизни, а иногда загоняют что–то о православном социализме. И зубрилок умных терпеть не могу, говорят всё правильно, а думать и рассуждать не умеют. И наивны к тому же, впрочем, это прекрасная черта чистого человека.
– Неужели вы не можете обаять их? – спрашивала Орлова, глазами показывающая домработнице, что нужно подавать на стол.
– Сложно работать в духовном образовании в России… Мои французы проще… Европейцы нашли себя и твёрдо стоят на ногах с уверенностью в своих личных силах и исключительности, для них христианство стало философией, доказывающей, что они совершенные творения. Русские же люди находятся в постоянном поиске себя – они недовольны жизнью, властью, своим характером или внутренним миром. Кто–то слишком эгоистичен, кто–то слишком недоволен собой. Такой слишком широкий охват собственной личности объясним временами, когда смысл жизни был лишён духовности…
– Вы говорите о Советском времени? Просто мне кажется, что всё, о чём вы сказали, было в русском человеке постоянно.
– Ну, Елизавета Николаевна, вы можете обратиться к классической литературе и тогда вам станет понятно, что к поиску себя были склонны личности, души которых не открывались для Божьего света… Онегин, Печорин, Чичиков, Базаров, Лаврецкий, Вронский, Рогожин, Ставрогин, Верховенский, Грушницкий, Лёвин, Болконский. Все эти персонажи стремились найти себя, конечно, в разных сферах, но концептуально они искали смысл жизни. И увы, никто из них его не обрёл: кто–то желал денег, кто–то семьи, кто–то любви, кто–то страсти, кто–то был просто слабохарактерной личностью, как Лёвин, а кто–то, будучи талантливым и ценным человеком, погрузился в безумный эгоизм и пошёл по пути неправильного самопознания, как Болконский… Потому все эти персонажи плохо кончили.
Орлова не притрагивалась к закускам, с тонкой улыбкой ожидая возможности ответить.
– Вы не менее категоричны, чем ваши семинаристы… Не берусь говорить про каждого персонажа, потому что знаю их судьбы довольно плохо… Но неужели авторы вкладывали именно такой посыл в эти образы? Неужели Чичиков неспособен к исправлению, неужели Вронский не искупил себя на войне, неужели Ставрогину были чужды муки совести и раскаяние? И вряд ли Болконский пострадал из–за своей эгоистичности, он просто был потерявшимся, побитым жизнью человеком не от мира сего, не склонившим тем не менее головы и потому не отбежавшим от ядра.
Епископ Евгений тоже слегка усмехнулся, понимая, что Орлова не хуже него ориентируется в русской литературе.
– Все эти герои безусловно не представляют из себя авторский идеал, кроме Лёвина, конечно, но там как–то очень нудно… Они слабы либо нравственностью, либо духом, либо умом, либо активностью к жизни. Действительно прекрасна судьба Николая Кирсанова, с его семейным и личным счастьем… Лиза Калитина поступает очень жертвенно по отношению к своей жизни и любви; Шатов, окрылённый искренним чувством к жене, достоин всяческого уважения; вершиной же толстовского «человекописания» является Степан Аркадьич. Его философия замечательна: «надо признаться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, и пользоваться ими с удовольствием».
– А вот я, – говорила Орлова, опуская сырный квадратик в мёд, – Считаю шикарным Салтыкова–Щедрина и его Порфирия Головлёва. Это прекрасный образец безнравственного, сладострастного и во всех отношениях мерзкого героя, который вопреки всем своим злодеяниями в конце романа испытывает духовный страх и в глубоком, но едва чуть уловимом раскаянии идёт на могилу загубленной им матери, где и умирает. И мне кажется, что это позволяет ему спастись. А на ваш профессиональный взгляд?
– Да согласен, наверное… Вообще вся русская литература XIX занимается разработкой христианской философии, кто–то смотрит по–своему, как противоречивый Толстой; кто–то, как Достоевский, основывается на ортодоксальных идеях.
– И все одинаково критикуют попов, – засмеялась Орлова.
– Ну, Елизавета Николаевна, – смутился епископ. – Это у нас так принято из–за исторической несвободы Церкви и обслуживания ею государственных интересов… У меня исследование посвящено различиям социального влияния нашей Церкви и Католической. У них Ватикан – это государство, у нас Церковь – это государственный институт… В том числе поэтому я придумал фонд. Для влияния.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу