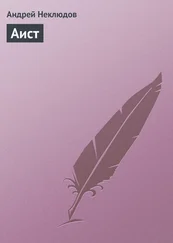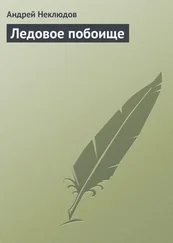Она умолкает на время, как будто давая мне возможность посочувствовать бедному мужику: так старался произвести впечатление, а может, и вернуть ее надеялся, но за два года не просёк свою жену – что ей надо. В общем, такой же пень, как и я.
Марина невесело вздыхает:
– Но я тогда поступила неправильно. Он говорит: «Хочешь сухенького?» Я отказалась. Сослалась, что устала и голова болит. Я и вправду устала, и голова вправду болела. Но это была ошибка. Не надо было его обижать, хотя бы ради дочки. Все же у ребенка должен быть отец, пусть и на стороне. Уже когда отказалась, увидела на подоконнике два великолепных хрустальных фужера. Два! Новеньких! Рядышком стоят. Массивные. А «сухенькое», наверное, за занавеской… Занавески тоже, кстати, сменил… А когда я отказалась, он губы поджал, понял, что я человек конченый. «А ты, – говорит, – постарела. И вообще, у меня, – говорит, – столько девок! А у тебя, наверное, свои мужики?» Я молчу. Какие у меня мужики? Юлька, работа, стирки, глажки… Спрашиваю: «А дочку ты больше не хочешь видеть?» – «А зачем? – отвечает. – Я ее уже увидел. Ничего в ней моего нет, твоя порода. И вообще она, может, не от меня».
Марина просит еще сигарету и какое-то время молча курит. Потом взглядывает искоса:
– Знаешь, что я тебе скажу… Ты только, пожалуйста, не обижайся. Я сейчас на мужиков смотреть даже не могу. Их просто нет. Ты первый, с кем захотелось поговорить. Ты располагаешь к себе. А может, меня просто достало это одиночество, – и она смотрит на меня как-то по-особенному, точно обнаружив в облике собеседника новые черты (о, как мне знаком этот взгляд!..).
Я понимающе, проникновенно поглаживаю ее плечо. Она не отстраняется, не убирает мою руку, она даже подается немножко мне навстречу. Тогда, стоя сбоку, я одной рукой приобнимаю ее за талию и, когда она опять ко мне поворачивается, целую в сочные губы.
– Федя… Какой ты… Ну все, отойди, оставь меня одну. Мы с тобой совсем незнакомы.
Она вся зябко ежится и подрагивает.
– Учти, я заводная. Потом сам рад не будешь. Давай будем хорошими… Там Юля… Я не хочу быть плохой.
Она говорит это, стискивая зубы, и зубы ее, кажется, вот-вот начнут выбивать дробь. И дышит она, как дышат при невероятной стуже. Я сжимаю ее крепче, но в этот миг клацает ручка двери и в тамбур протискивается пучеглазый толстяк в мокрой от пота майке, с сигаретой за ухом. Марина порывисто отстраняется; словно проснувшись, удивленно смотрит на меня. Затем поворачивается и идет внутрь вагона. Видно, как она отодвигает дверь соседнего с нашим купе и, оглянувшись на мгновение, скрывается за ней.
За окном текут, густея, сумерки. Я лежу на своей полке, ощущая, как внутри меня сгущается еще более беспросветная темень. Темень одиночества. Коллеги тоже укладываются, вяло бубня. Мне вдруг приходит в голову, что, быть может, как раз за моей стенкой лежит, также на верхней полке, эта «заводная» женщина Марина. И если бы сейчас каким-то чудом исчезла разделяющая нас символическая перегородка – мы оказались бы лежащими рядом, словно на супружеской постели. Возможно, она думает в эти минуты о том же и так же, как я, не спит. И, наверное, долго еще не сможет заснуть. Как долго не смогу заснуть я. Каждый со своим грузом и со своим одиночеством…
– Кириллыч! – доносится снизу голос шлиховщика Мишки. – Я без ста грамм не засну… Говорил же вам: мало взяли.
Начальник не отвечает.
Счастливчик, думаю я про Мишку, ему достаточно ста граммов…
Скрипит, покачиваясь, вагон, гулко перестукивают колеса, болезненно отдаваясь в голове. И снова наползают воспоминания.
Мы с Аней на крыше
Перед тем мы выпили вина. Настроение у меня было удалое. Через отворенное окно мансарды я выбрался на козырек и помог выбраться девушке, с которой едва познакомился, суля ей необыкновенные виды ночного Питера с высоты птичьего полета.
Крыша сдержанно покашливала и неодобрительно вздыхала под нашими ногами. Она была весьма замысловатой – с множественными выступами, башенками и трубами.
Я как будто вновь ощущаю влажный ночной ветерок, каменный запах города и холодные цепкие Анины пальчики, ее бледное лицо и колышущиеся пряди светлых волос. Совсем рядом, озаренный, мерцал строгий зеленоватый Исаакий.
Неожиданно в сплошной темной синеве туч родился глаз с полуприкрытой радужкой бледной луны. Словно кто-то неведомый и могущественный с интересом посматривал на нас с высоты. Но через минуту глаз сощурился, и остался лишь розовато-желтый влажный мазок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу