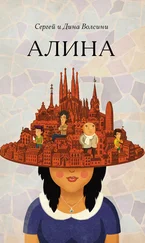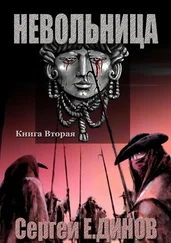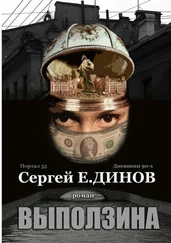– Фу-у-у, клин, напугали. Нельзя же так, господин Урбанов, нервировать творцов. Ну, да, лёгкий недодёр случился. Не вытянул по свету. Вы ведь просроченную бумагу дали. Вот серость в ответ и получили. А плёнка? Срок годности вашей архивной плёнки закончился с холостым выстрелом «Авроры» в семнадцатом году! Серебро на фиксы растащили крысы. Да и темно, серо в Питере постоянно, вы же знаете. Даже в белые ночи. Как же с такими единицами фотографировать, когда на улицах нет людей, и никто не мешает? Так что, единиц ваших, ТимЮр, – не хватает! А своих нет, чтоб купить. Не хватает для жизни самому. Единиц. Условных.
– Как ты меня назвал?! – взвился чиновник.
– Как? – мило и невинно улыбнулся Марат.
– Как? Как?! – настаивал Урбанов.
– Как-как… Да никак, – тяжко вздохнул Марат. – Уважительно. Просто сократил, Тимофей Юрьевич.
– Я те сокращу! – пригрозил Урбанов. – Я без сокращений сорок лет работаю на государство! Единиц ему не хватает, так твою фо! Ночи, не хай мать, в городе белые. А у тебя – одна темень?! Плёнки? Бумага? А это что? Обрезано кое-как. Края – завалены! Стены – тоже везде в развале и кривые?! А это? – чиновник выпучил бычий глаз в увеличительное стекло. – Что это? Матерщина? А тут – свастика?! Да ты куда ж, не хай мать, смотрел, фотограф?! У тебя весь мрамор на фасадах размалёван, так твою фо!
– У меня?! – искренне возмутился Марат и вспорхнул руками.
– Все сроки с тобой профо! Макет держим! Типографию держим! Убрался с глаз моих! Два дня даю! Переснять! Два!
Марат смиренно не поднял головы.
– Три, – тихо потребовал он.
– Вон! – прохрипел чиновник.
– П-па-а-апрашу, – надуло и приподняло с дивана Марата. Ему захотелось топнуть ногой, грязно выругаться. Он даже резво и гордо вздёрнул головой, но сдержался. Как говорится, взял себя в руки. Утёр нос и поддёрнул штаны. Пора было уносить ноги. Пока не лишили малой материальной халтуры. Нет, не время ещё для бунта. Не протрубила ещё труба Архангела. Хотя пора было уже выдавливать из себя по капле раба! Но как? Через какое место?
Марат с повинной головой поплёлся на выход.
– Никаких авансов! – просипел чиновник вслед и задохнулся в астматическом кашле.
– Па-а-ашел ты! – тихо проворчал Марат, уже за дверью страшного кабинета. – А пошёл я. Чего они все такие ужасные эти чинарики, не понимаю?
В З Я Т И Е
Фатой призрачной невесты растянулась над городом прозрачная серая дымка. На небесах стало радостнее, просветлённее, нежели предыдущее недельное месиво грязных туч с выбросами мерзкого, мелкого бисера дождя.
Марат бодро вышагивал по набережной канала Грибоедова, улыбался, радовался. Может, мыслям холостяцким, может, помыслам дурацким? Да только крас о ты северной столицы в который раз останавливали его, казалось, на том же самом месте, пройденном не единожды, останавливали и заставляли приглядеться по-новому, с новым настроением, с нового ракурса.
Фотограф замирал, отыскивал необычные «куртуазные», как он выражался, контрастные переходы света в тень, чёрных теней – в ослепительный свет. Забывался в экстазе творчества, вынимал аппаратуру. Фотографировал неистово. Для чего загибался с коленей к земле или брусчатке, снимал с нижних точек углы зданий в кирпичной щербине, фронтоны с облупившимися язвами штукатурки. В лабиринтах дворов выискивал на «глухих» стенах сохранившихся домов контуры старой кладки снесённых зданий, словно оттиски славного прошлого, словно призрачные тени строений старого Петербурга, канувших в реку забвения Лету. Можно было подумать, что ищет Марат изъяны времени, признаки разрушения. Но нет, дотошному фотографу важно было отыскать непривычные, невидимые простому глазу фрагменты уходящего в небытие старинного города. Это был его, особый взгляд на незаметно ускользающую каменную жизнь. Художник искал гармонию в ущербности, ветхости, разрухе и забытии.
Множество раз он фотографировал любимые места любимого Ленинграда-Петербурга, независимо от переименований, для глянцевых «открыток» и туристических буклетов. Растиражировал за десять с лишним лет причудливое разноцветие пирамиды куполов Спаса на Крови, сусальных крылатых львов Банкового моста, бликующий крест над распахнутыми объятиями колоннады Казанского собора. Величавый Санкт-Петербург оставался искренне любим Маратом в любых ракурсах, в любых количествах, в любых состояниях суровой северной природы.
Сегодня Петербург вместе с фотографом оставался хмурым и неприветливыми. Реставрировали город, подкрашивали, а он оставался традиционно мрачен и сир этот северный бастион русской культуры.
Читать дальше