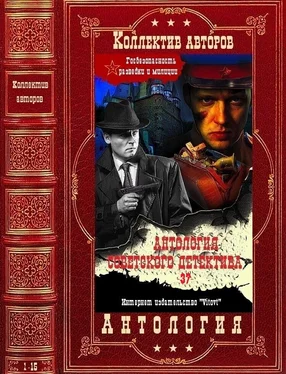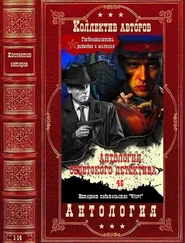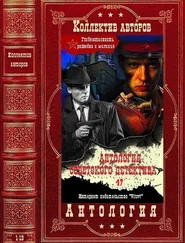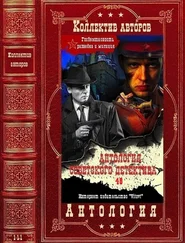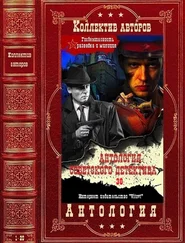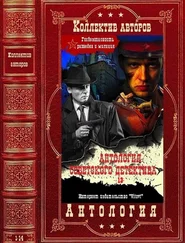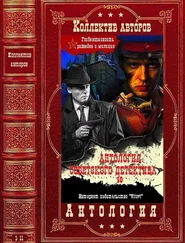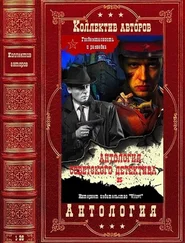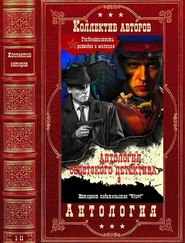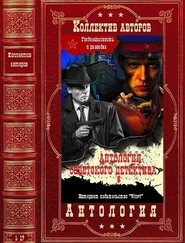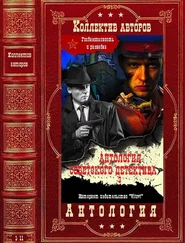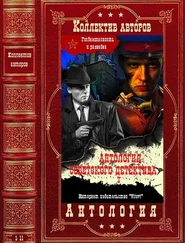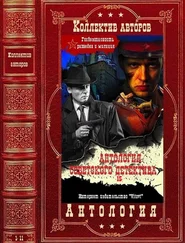Осокин слушал ее, а в ушах в той же интонации звучали слова ее сына: «…остался совсем один…»
— Вот они, мои дорогие, любезные моему сердцу… Я с ними разговариваю, а если бы не могла с ними разговаривать, наверное, помешалась бы в уме.
Действительно, вот они. Большая фотография в рамке под стеклом офицера русской армии в морской форме. Это муж. Рядом фотография поменьше — это сын, в форме лейтенанта. Внизу размашистая надпись знакомым почерком: «Июнь 1941 года».
Всю их беседу Осокин кратко занес в протокол, который Зоя Петровна подписала безропотно, так и не поняв истинной цели визита к ней следователя из прокуратуры. Про ее сына Осокин ни слова не сказал.
О предстоящем своем выезде из Подольска в Ленинград по причине вновь открывшихся обстоятельств Осокин, конечно, своевременно доложил Русанову по телефону. Вот почему Русанов его встретил вопросом:
— Так что вы повидали в Ленинграде?
— Невский проспект и несколько залов Эрмитажа… — отшутился Осокин.
— Это хорошо, что всего лишь несколько залов… Значит, смотрел внимательно! На Эрмитаж надо потратить много времени…
— У меня оставалось всего лишь три свободных часа…
— А что новенького о нашем подследственном?
— Новенького — ничего! Хорошо забытое старое… Он вырос в Ленинграде, и я не сомневаюсь, что если и самому в голову не пришло, то мать, конечно же, водила его в Эрмитаж. Не мог он не видеть галереи героев Отечественной войны двенадцатого года. Я уверен, что и «Войну и мир» Льва Толстого читал… Наверно, знал он и о том, что те генералы, чьи портреты собраны в галерее, часто соперничали между собой, нелицеприятно отзывались друг о друге, подкапывались друг под друга. Беннигсен под Кутузова, насмехался над ним и Ермолов, а Барклая-де-Толли чуть ли не объявили изменником. Только все они вместе совершили великое дело, и оно осталось главным в их жизни. Мелкие хлопоты давно забыты и быльем поросли. Там были люди, которые любили и не любили царя, любили и не любили друг друга, но все они любили Россию!
— Не слишком ли высока материя для суждений об этом подонке?
— Подонок? Это слишком расплывчатое определение! Я утвердился во мнении, что это враг! Однако из сталинградского героя, каким оказался его родной отец, вывести врага никак не могу. Пример не тот, не отсюда черпал свое мировоззрение наш «деятель». Придется обратиться к классической формуле: классовая ненависть двигала им! Для меня, для моих сверстников, быть может, и для вашего поколения — это что-то очень старомодное! Но! У его деда по матери как-никак числилось в собственности двадцать тысяч десятин. Разве этого мало?
— Да, это аргумент! — согласился Русанов. — И ты готов к предстоящей схватке?
— Думаю, что ее не будет.
— Это как же?
— Мой подследственный уже обложен со всех сторон настолько основательно, что сам поймет: дальнейшее противоборство ни к чему его не приведет.
— Пойдете к нему один? Может, сходить и мне с вами?
— Я думаю, что это лишь осложнит обстановку. Присутствие других он воспринимает как вызов.
— Вам, конечно, виднее! — опять согласился Русанов и не сдержал ободряющей улыбки.
Ничего еще не подозревавший подследственный с порога поинтересовался:
— Где же ваш чекист?
— Уехал! — охотно разъяснил Осокин.
— Что опять долго не были? Может, на что-то обиделись?
— Пустое. Уезжал я.
— Тогда понятно. Спрашивайте, я готов отвечать.
— Наплетете очередное вранье?
— Как знать, может, что и расскажу, — пообещал он.
Пора было переходить к существу дела, и Осокин счел возможным повторить вопрос, который уже задавал не раз.
— Вы, наконец, признаете, что никогда не были Прохором Охрименко?
Ответ был скор и краток:
— Признаю!
— А как насчет Федора Зяпина? Что скажете о нем?
Ответ и на этот вопрос не замедлил себя ждать. Очевидно, подследственный подготовил его заранее:
— Занесите в протокол, я действительно тот Федор Зяпин, который так интересует вас, большего не скажу!
Надо полагать, что подследственный этим куцым признанием рассчитывал сразу дать Осокину возможность побыстрей отделаться от него и закончить дело. Но расчет его не оправдался. Осокин на разительную перемену в поведении не отреагировал. Вместо этого он выложил на стол два офицерских личных дела — на Прохора Охрименко и на Федора Зяпина — и предложил:
— Можете с ними ознакомиться. Но хотелось бы услышать, что еще заставляет вас скрывать истину до конца?
Читать дальше