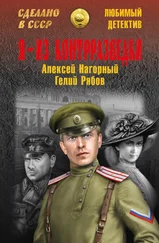— Я в милиции работаю. — Он никогда (то есть — «он» действительно никогда) не обсуждал с нею служебные проблемы. — Ты, кажется, пригласила меня поужинать?
— Господи… — всплеснула она руками. — Мама! Вы только посмотрите на него! Какая поставленная речь! Какая ирония! Над кем смеешься, дурак! Кто тебе стакан воды подаст в старости? Кто закроет глаза?
— До старости далеко. Тебе. Что касается меня — я уже перешагнул ее порог. Да.
— Я больше не мо-о-о-гууу… — Зоя схватилась за голову и стала стучать ею об стол. То, что при этом она держала ее руками, придавало ее движениям какой-то молодецкий, молотобойный характер. Как в кузнице.
Вошла пожилая женщина, маленькая, худенькая, с седыми волосами-сосульками, горестно уставилась на супругов.
— Зоинька, — произнесла она бессильно-безнадежно. — Ну зачем ты его мучаешь и сама мучаешься… Разойдитесь вы, Христа-ради…
— Не нужна я тебе… — Она сидела с мертвым лицом. — Не нужна…
Сергей подошел, погладил осторожно по плечу, она всмотрелась, щуря и без того совсем маленькие бесцветные глазки, и взвыла отчаянно, без удержу и разума.
— Уведите ее, — попросил Сергей. — Устал я…
То была не усталость, устать он не мог. Но она мешала ему. Он смотрел в сгорбленную спину тещи, которая уводила жену, словно раненого солдата с поля боя, и ему становилось не себе. Или что-то очень похожее по ощущению одолевало его. «Почему, — вдруг подумал он, — она не нравится мне? В чем дело? Несчастная женщина, нелюбимая, брошенная, без участия и ласки кукующая свой недолгий век. Да он… То есть — я просто гад!»
— Да он еще смеется! — Зоя вырвалась из рук матери и бросилась на него с кулаками. Он сделал шаг в сторону, пропустил ее в кухню и закрыл двери.
— Поговорим, Сергей. — Теща села за стол и закурила. — Ты не любишь ее.
— Я не могу любить.
— Хорошо. Сегодня сюда звонила… — теща взяла листок, вгляделась дальнозорко, — Евгения Сергеевна. Кто это?
— Не то, что вы могли подумать. На самом деле этой женщины нет.
Она взглянула на него с насмешливым недоумением:
— Хорошо. Пусть «нет». Ты-то сам, ты — есть?
— Есть другой человек. Я прочту вам стихи: «Но кто мы и откуда? Когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете — нет…».
— Ты и вправду ненормальный. Раньше я не замечала за тобой.
— Мое «раньше» вам неведомо.
Тьма поглотила его, он перестал слышать свой голос, перед ним был стол и фотография в сепию, — старая визитка с золотым обрезом: смеющаяся девушка лет 17-ти в длинном узком платье и с зонтиком-тростью в руке. Рядом — молодой человек в офицерской форме: погоны, фуражка, шашку он прижимал левой рукой к бедру…
Он взял фотографию и бросил. Так падает осенний лист — медленно, плавно, с достоинством смерти. Ее лицо, и вдруг — его, и вот — ничего…
…и он взлетел над перилами и устремился вниз, в бесконечный черный провал лестничного пролета, и полет этот был долгим-долгим…
И увидел себя сверху. Мертвое лицо, из уголка рта — тоненькая струйка крови.
Он поехал к Евгении Сергеевне. Тихая улочка в старом центре города, ленивые прохожие, булочная, маленькая аптека. Проехал мимо заветных дверей, огляделся — никого, слава Богу, сюда они еще не добрались. Нужно было поставить машину и идти, но им овладело… не беспокойство, нет, он это называл по другому: определенность. Ока заключалась в том, что они все же были рядом. Где? Внешних признаков не было, но «определенность» свидетельствовала…
Прямо напротив дома Евгении Сергеевны реставрировали особняк XVIII века — с антаблементом, колоннадой и окнами с венецианским разбегающимся верхом. Здесь давно уже никаких работ не велось — начали и, как водится, бросили. В ризолите по центру темнело окно, видимо, там был чердак.
«Все же добрались… — равнодушно подумал. — Ладно…». Оставил машину за углом и к особняку подошел с противоположной стороны. Дверь — по центру, «парадная» была закрыта наглухо, но это только казалось. Нажал плечом, что-то щелкнуло, дверь поползла, он вошел. Лестница с остатками былой красоты — точеные балясины из мрамора, все разбитые и разломанные, мраморные же перила, от которых осталось одно предположение, грустное зрелище…
С площадки последнего марша разбегались в три стороны анфилады — разоренный мир, стертый со списка бытия безжалостной пролетарской рукой. Впрочем, он догадывался, что пресловутых «пролетариев» в продолжающемся погромном деле было не так уж и много. Человек, умеющий работать руками, практически никогда не позволяет себе ломать и уничтожать, сделанное другими. Иное дело — руководители этих самых пролетариев. Вот уж они воистину никогда и ничего не умели — разве что деньги считать. Эти любили ломать и крушить, и понятие «потока» и «разграбления» было для них сущностным…
Читать дальше
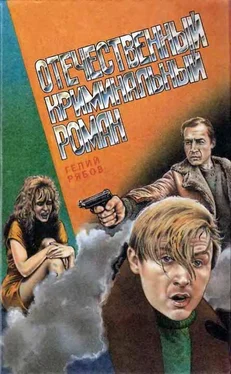







![Гелий Рябов - Приведен в исполнение... [Повести]](/books/161080/gelij-ryabov-priveden-v-ispolnenie-povesti-thumb.webp)