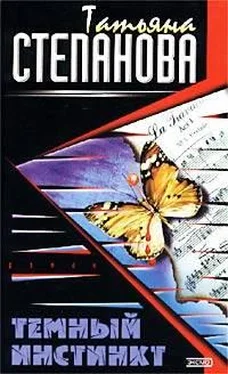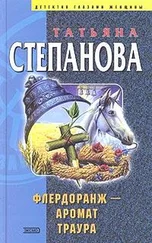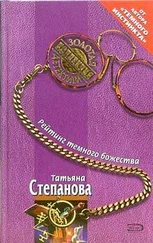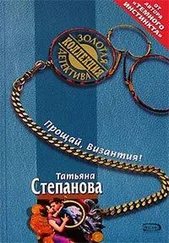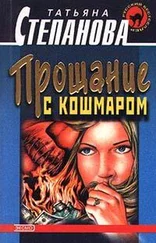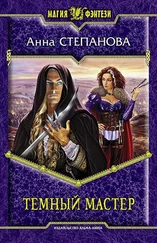— «Каждый пойдет, блуждая, в свою сторону, и ничто не спасет тебя». Там на полях против этих слов стояло несколько восклицательных знаков. Марина, помнишь? Видно, эта фраза его глубоко задела.
— Ну, догадаться-то нетрудно, что его задело, — усмехнулась Майя Тихоновна. — «Блуждать» — то и Петру Ильичу доводилось. Грехи молодости, и не только молодости… Он бы лучше по своим лакеям поменьше вздыхал и томился — по всем этим Евстафиям, Алешенькам Сафроновым, Осечкам Котикам, вот что! И поменьше бы с братцем своим Модестом в письмах откровенничал насчет этих своих склонностей. — Она зло прищурилась. — А то жену вон до сумасшедшего дома довел. Жена Чайковского Антонина Милюкова, — сообщила она Кравченко, — кстати, брошенная им на второй месяц после свадьбы, страдала сильнейшим эротическим бредом. Представляете? Прямо нимфоманкой была, а все из-за того, что…
— Майя, я прошу тебя, — Зверева откинула голову, коснувшись затылком руки Шипова-младшего. — Не будем сейчас это обсуждать.
— Ну конечно, правила гению не писаны! Гению позволено все! Нет уж, не все, дорогие мои. А то мистицизммистицизм! Что ж, и Библией зашуршишь, когда грехи за ноги на тот свет потянут, — аккомпаниаторша тяжко засопела.
— А я думаю, напрасно к юбилею Петра Ильича опубликовали всю эту его интимную переписку с братом Модестом. Зря, — Новлянский поморщился, — выдумали тоже — «Гений без купюр»! А может, как раз гений, как никто, нуждается в этих самых купюрах относительно своей частной жизни. Быдлу совершенно необязательно знать те подробности, которые гений при жизни своей считал необходимым скрыть. Мало ли кого он любил, с кем жил, о ком страдал, что ему нравилось, что не нравилось? Не ваше собачье дело, на то он и гений. А теперь каждый волен прочитать все это сокровенное, тайное и потом глупо, сально ухмыляться, пошлить, презирать и лицемерно жалеть его за «слабости». — Новлянский подался вперед. — А виноват в попустительстве этому интимному стриптизу в первую очередь брат Чайковского. Все письма такого рода он должен был сразу же сжечь — если был мужчиной, если любил брата. А не хранить их, чтобы каждый потом мог копаться в этом грязном белье и судить о том, чего понять ему не дано! Сжечь — и поставить крест на всех сплетнях.
Марина, я прав или не прав?
— Ты прав, Петя. — Зверева безучастно смотрела в окно. Шипов-младший чуть подался в сторону, чтобы не заслонять ей свет.
— Семья несет полную ответственность за честь, достоинство и доброе имя того, кто принес этой семье славу. — Новлянский говорил теперь так, словно это ему тут было пятьдесят лет, он был главой дома и читал нотации своему нашкодившему и нагрешившему сверх меры потомству. Вся манера его речи, построение фраз, сама поза резко отличались теперь от прежнего Пита. Несмотря на свои «бермуды» и растянутую кофту, он выглядел теперь взрослым, зрелым мужчиной, только еще очень юным внешне — словно Доктор Фауст, обретший вторую молодость.
И от этой необычной своей «юной зрелости» даже похорошел. — Семья отвечает и за то, чтобы после своей смерти гений унес с собой в могилу все тайны, которыми так дорожил при жизни. Вот почему я всегда против того, чтобы чужие, — тут Новлянский бросил взгляд в сторону Кравченко, — каким-либо образом принимали участие в делах семьи. Даже в тяжелые, скорбные минуты, даже когда это вроде бы идет на пользу.
— Оставь, Петя, пожалуйста, — Зверева слабо махнула рукой. — Ты прав во всем, но, пожалуйста, оставь.., это.
Кравченко напряженно слушал. «ЧТО-ТО ПОД ВСЕМ ЭТИМ КРОЕТСЯ, гений, слабости, семья как бастион, „блуждания“… Что-то все тут знают или о чем-то догадываются, но… Один ты как пень ни бельмеса ни в чем, ну же, думай!» — Он был вынужден скрыть свою досаду под вежливо-нейтральным замечанием:
— Должно быть, здорово владеть той самой книгой, которую так вдумчиво читал сам Чайковский. Я про библию его…
— А мне ближе всего вот эти строки, им отмеченные в Притчах Соломоновых. — Зверева выпрямилась и обвела взглядом притихших при звуке ее голоса домашних:
— «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, а если имеет жажду, напои водой».
— Ну, эта ваша христианская любовь к врагам… Бог мой, Мариночка, о чем ты говоришь! — Майя Тихоновна так и заколыхалась — не от смеха, боже упаси, от горчайшего сарказма:
— Тут бы ближнему своему горло не перервать — как-то удержаться, при такой-то нашей волчьей нынешней жизни. Падающего — глубже в яму не столкнуть, безвинного не…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу