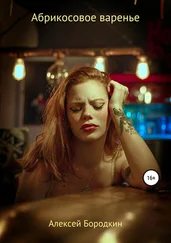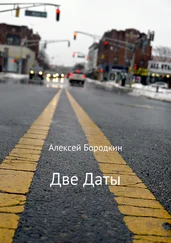Толстой демонстративно сплюнул и выпил стопку. Пробурчал, что водка какая-то вялая, что охмеление задерживается.
– Хмель отстаёт в пути. Ха-ха. К слову, кто он? Я не о хмеле, о мальчишке. Как он оказался здесь?
– Многих деталей я не знаю, – Шацкий оживился, – однако те, что мне известны – весьма пикантны. Ему двадцать шесть, фамилия Ломов, имя Георг, он кончил курс в университете, мечтает завести небольшой похоронный бизнес, памятники и надгробия его страсть. Любит стихи и трогать камень руками.
Через лоб Толстого пробежала морщинка, однако он ничего не сказал, не желая перебивать рассказчика.
– На этой почве и произошло их знакомство… хм… – Шацкий отложил электронную книгу, взглянул на потухшую сигарету, понюхал зачем-то пальцы и продолжил: – Я говорю со слов Афочки, а потому не убеждён, что всему можно доверять… – Доктор нетерпеливо прокрутил ладонью, мол, двигайтесь вперёд, степень доверия установим после. – Она переживала наш… разрыв, находилась в депрессии, подумывала о смерти и даже составила завещание. Если не врёт, конечно. Пришла в контору, что занимается похоронными атрибутами. В ту пору там стажировался Георг. Они с первого взгляда понравились друг другу, промелькнула искра любви… так, кажется, говорят, и Афочка отдалась Ломову. Прямо в мастерской, среди крестов и мраморных надгробий.
– Вы так говорите, – буркнул доктор, – будто и подробности вам известны.
– Конечно! – откликнулся Шацкий. – Афочка всё мне рассказала. В центре мастерской стояла заготовка для… ящик…
– Гроб там стоял, – перебил Толстой. – Давайте называть вещи своими именами.
– Гробом он становится по помещению покойника, – возразил Шацкий, – однако воля ваша – гроб. Гроб полный деревянных стружек. Афочке показалось символичным такое стечение обстоятельств: последний путь, ковчег, её желание умереть и молодой вьюноша Харон.
– Романтично.
– Мне тоже так видится.
Шацкий закурил новую сигарету.
– Могу ли я после такого всплеска осуждать её увлечение?
По тропинке, от пруда возвращались Инга (дочь Шацких) и Серёжа (её жених). Так получалось, что солнце баловалось на поверхности воды; и юная зелень, и яростные блики, и крики уток с противоположной стороны пруда – всё это сопровождало юную пару, как аура… как некий комплимент, отпущенный Природой.
– Вот это я понимаю – любовь, – одобрил Толстой. – Молодые, юные, непорочные… плодитесь и размножайтесь, и всё такое прочее… безо всяких гробов и паскудных опилок.
Тут же, без малейшего перехода доктор спросил, может ли он остаться на ночь:
– Выпил лишнего, – так он оправдал свою просьбу. – Предстоит выпить ещё больше. Но вы не волнуйтесь, пьяный я душка. Худшее, что вы можете ожидать, я стану обниматься, полезу целовать дамам руки и начну убеждать, что вы величайшего ума человек.
– Ах, доктор, могу ли я вам отказать? Имею ли я право? Скажите, а почему так давит сердце? – Шацкий повёл рукою по груди, касаясь левой стороны. – Томление неприятное и вялость мыслей.
– Будет гроза, – уверил Толстой, – по всем приметам судя. Ветер притих, парит, стрижи жмутся к деревьям. Будет гроза, притом вскорости. Ишь как Харон ваш оживился.
Мужчины опять поворотились и взглянули на поляну. Шацкая требовала раскачивать её сильнее, Георг толкал изо всех сил. "Выше! Выше! Сильнее!" – кричала Шацкая, взлетая выше горизонта.
Час с небольшим спустя, небо заволокло тучами, доктор задремал, положив голову на стол и свесив руки к земле (он сделался похож на усталого интеллигентного орангутанга в мятом костюме). На траву упали первые капли. Толстого пришлось поднимать и вести в гостевую комнату; он, как и обещал, улыбался (трансформируя лицо в масляный блин), бубнил комплименты и пускал слюни.
Ужин отложили, а потом и вовсе отменили. Афина Генриховна отправилась вместе с Ломовым "за приключением" в деревню, в деревенский магазин, Шацкий перебил аппетит чаем с крекерами. Инга и Серёжа… молодым и вовсе было не до еды. Они потребовали фруктов и заперлись в своей комнате. Надежда Львовна выполнила просьбу, но злопамятно покачала головой. Обещала отомстить за хамское поведение дурно сваренной овсянкой. Завтра же.
…однако дождь пошел только ночью. Около двух. Часы только что пробили, Шацкий проснулся, подумал, что нужно вынести часы из дому: "к черту на кулички эту пожарную каланчу; в сарай или в погреб – куда угодно", и тут же небо хрустнуло, словно пережаренная хлебная корка, ударило сильно и сухо (кажется, молния угодила в дерево), гром раздался через мгновение, а ещё через несколько секунд опустилась стена дождя.
Читать дальше