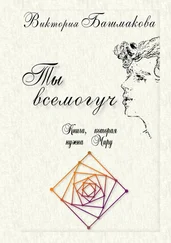— Ответ зависит от того, кого вы об этом спросите. Он считал себя универсальным ученым.
— А вы?
— Я? Мне было позволено лишь готовить настойки, которые он вычитывал в разных книгах.
— Он разбирался во врачебном искусстве?
— Тот, кто всю жизнь сидит на книгах, как курица на яйцах, и переписывается с учеными всего мира, не может не усвоить от них знания. Альдорф хватался за все. За любой обрывок знания, который попадался ему под руку. Он учился с утра до вечера, ставил опыты, приглашал к себе ученых, которые делились с ним своими познаниями. Он, конечно же, очень много знал, но…
Фраза осталась незаконченной. Николай ждал, но Циннлехнер предпочел удержать мысль при себе.
— Отчего все же умерла девушка? — спросил он наконец. Аптекарь пожал плечами:
— Этого я не знаю. Она медленно задохнулась. Но это была не обычная легочная чахотка. Она не кашляла. Это было медленное умирание. Медленное, но неотвратимое и безостановочное. Она просто угасла. В январе этого года.
Циннлехнер помолчал.
— Еще чаю? — спросил он.
Вероятно, ему доставляла удовлетворение сама возможность рассказывать Николаю обо всех этих делах, в его глазах даже появился некоторый блеск. Николай совершенно расхотел спать. Было, должно быть, около часа ночи, но эти быстро последовавшие друг за другом смерти зачаровали Николая. Неужели все это правда и его не подводит слух?
— Потом умерла еще и мать?
— Она пережила двух своих последних детей всего на шесть недель, — ответил Циннлехнер.
— Супруга Альдорфа?
— Да, Агнесс фон Альдорф.
Николай ждал. Сейчас этот человек наверняка расскажет ему, от чего или при каких обстоятельствах умерла эта женщина. Но аптекарь не стал ничего рассказывать. Вместо этого он снова заговорил о Максимилиане:
— Агнесс фон Альдорф боготворила своего сына. Она понимала, что это ее единственное удавшееся творение. Ее первенец погиб в семнадцать лет, второй был безумен, дочь стала постоянно погруженной в себя меланхоличкой. Нет никакого чуда в том, что все свои надежды она возлагала на Максимилиана. Да и сестра любила его чрезмерно, она принимала живейшее участие в самых незначительных событиях в его жизни, так что она, можно сказать, не жила собственной.
Он внимательно посмотрел на Николая и вдруг спросил:
— Верите ли вы в то, что человек может умереть от душевного потрясения?
Николай был весьма удивлен таким поворотом в речах Циннлехнера.
— Душа — это не орган, — осторожно ответил он. — Во всяком случае, ее нельзя измерить. Именно поэтому нельзя делать на эту тему определенных умозаключений.
Циннлехнер усмехнулся.
— Альдорф однажды попытался проделать этот опыт с дюжиной кроликов, — сказал он. — Он тщательно взвешивал их, а потом сворачивал им шею, после чего снова взвешивал.
Николай онемел.
— И… что?
— Он хотел узнать, сколько весит душа.
— Но… у животных вообще нет души.
— Да, именно к такому выводу он в конце концов и пришел. Все это, должно быть, написано где-то в бумагах, которые вы видели наверху.
Николай был до того возмущен, что едва не спросил, не взвешивал ли Альдорф собственную дочь. Но одновременно он чувствовал, что личность графа вызывает у него все больший интерес. В душе Николая шевельнулась известная зависть — зависть к беззаботности, с какой люди типа Альдорфа могут заниматься своими изысканиями. Если бы в его распоряжении была хоть малая толика апанажа, который получал сын Альдорфа, то он давно был бы уважаемым врачом в Галле или Йене, а не прозябал бы в этой франконской дыре жалким помощником врача. И уж он бы не стал тратить время на взвешивание душ или сборку алхимических аппаратов, а занимался бы серьезной наукой.
— Чему учился Максимилиан в Лейпциге? — спросил он.
— Слушал курсы по истории и философии.
— Я думал, что молодой аристократ занимался кабинетными науками.
Циннлехнер небрежно отмахнулся.
— Максимилиан рос на моих глазах. Он был копия своего отца. Такой же неисправимый мечтатель. Однажды домашний учитель продемонстрировал ему на уроке геометрии невозможность вывода квадратуры круга. На следующий день мальчик взял, натянул бечевку вокруг бочонка, связал концы и возился с петлей до тех пор, пока не сделал из нее квадрат. Потом он гвоздями прибил этот квадрат на дощечку, торжественно принес ее учителю и сказал, что сумел опровергнуть его утверждение. Учитель был озадачен забавной выходкой мальчика и не сразу нашелся, что сказать. Но Максимилиан бросил ему под ноги доску с прибитым к ней квадратом и крикнул: «Однако как же ты глуп. От того, что мы видим, как нечто присутствует, оно не становится истинным?»
Читать дальше