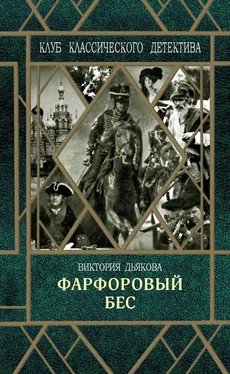Живет Матрена одна, вдово, на отшибе деревенском. Односельчане кличут ее «дурной», сумасшедшей то есть, и двор ее обходят стороной. А Платоше только того и нужно, что еще? Вот натопит Платоша комнатку, придвинет сундук к окну, наложит на него шуб царских, замотается в них и лежит, лузгает орешки из большого мешка, как белка, ждет гвардиолусов. Всю ночь не спит. Как заснешь, когда знаешь, что по ночам имеет гвардия обыкновение нагрянуть с расправой своей. Только когда затеплится рассвет в окошке за попоной, и свеча прогорит полностью, позволит Платоша себе задремать. Во сне видится ему корона алмазная на волнистых, припудренных локонах, горностаевая мантия на полных покатых плечах, отороченных золотым шитьем, белая рука, унизанная перстнями, протягивается к нему, выступая из белесого, холодного тумана вечности.
– Что еще хочешь, сынок? – слышит он порой пронзительно-скрипучий голос, совсем не похожий на голос Като. – Не задавился еще моими деньгами?
Снедаемый тревогой и страхом, он беспокойно ворочается на сундуке. А голос Като доносится до него неотвратимо. Теперь он уже мягче, в нем чувствуется глубокое огорчение, и обращены слова царицы не к нему, а к старому другу Алехану Орлову:
– Ты в мою приемную погляди, Алексис, – жалуется царица. – Кого там только нет. Французские маркизы, валашские бояре, татарские ханы, наши православные иерархи, даже от турецкого султана беглые паши, и те ко мне в Петербург прибились. Магомет им не Магомет… Готовы отказаться от него ради денег. Все протекции ищут, патента, всем что-то от меня нужно, а главное – богатства. Устала я, Алексис. Все хотят погреться в лучах сияния моей державы, а сама я никому не нужна. Невестка Марья Федоровна волчицей глядит, только и ждет, когда я отправлюсь в мир иной, чтобы мое место занять, фавориты обобрали всю, скоро и самой надеть будет нечего в мороз, Платоша из моего гардероба все шубейки себе в дом переносил. Придется, Алехан, у тебя занять пальтецо, – и на склоне лет императрице не изменяло ее чувство юмора. – Сдашь ли в аренду матушке-царице какой салоп завалящий, чтобы не простудилась она?
– Эх, Като, Като, – Алехан, не думая ни мгновения, сгреб царицу в объятия и, подняв на руки, вынес из-за стола. – Напрудила ты куртизанов, прохода от них нет. Только все они мелкота, полевки длиннохвостые. Толка с них никакого тебе нет. Не салоп – дворец отдам и не пожалею. Ты нас, Орловых, знаешь. Султана турецкого из его Стамбула выкурю пушками и на поводке к тебе приведу, вместе с гаремом для твоих куртизанов, только прикажи. Прогоняла ты нас, прогоняла, – он осторожно поставил царицу перед собой. – А все опять тебе Орловы надобны. Не грусти, Като, – он наклонился и поцеловал плечо императрицы. – Богатство наше, орловское, от тебя, так что и считай, что твое оно. Сколько надо денег, дам без всякого спроса обратного, и на что потратишь, не поинтересуюсь.
– Веришь ли мне, Алексис? – Като прислонила к глазам кружевной платок и промокнула набежавшую слезу: – Дня не проходит, чтоб я о Григории не вспоминала. Никого так не любила, как его. Как себя кляла, что прогнала прочь, как он за фрейлиной Зиновьевой увязался, чтоб меня позлить. А я и повелась на его игру самолюбивую. Приказала на Зиновьевой той жениться, из России вон услала обоих. Думала, смогу забыть, смогу другого полюбить еще пуще. А молодость-то не повторяется, Алексис. И никто уж не станет меня любить, как Гришка, только за то, что я женщина и хороша лицом. Теперь во мне любят императрицу, и каждый желает пользовать меня ради собственной выгоды, не более того…

Глава 4
Встреча с минувшим
Кошка соскочила с лавки и опрокинула пустую деревянную бадью. Та свалилась на крытый циновкой пол и глухо ударилась об него. Кошка с шипением спряталась за печку.
– Ах ты, недотепа, ах ты, уродина! – хозяйка дома, вздыхая и поругивая кошку, прошаркала башмаками, сплетенными из прутьев к скамье, наклонилась, подняла бадью и поставила ее на прежнее место. Потом распрямилась, поправив черный вдовий платок, закрывавший до бровей ее сухое, морщинистое лицо. – Вот побудишь барыню, а она и так намаялась, – упрекнула она кошку. Но та свернулась клубком, прижавшись спиной к теплой печной стенке, и уже мурлыкала во сне.
Анна открыла глаза. Она слышала, как упала бадья, но у нее не было сил даже пошевелиться. Она лежала на полатях, завернутая в толстый овечий тулуп. События предыдущей ночи вспоминались ей с трудом, обрывками. И нужно было приложить усилие, чтобы расположить их последовательно. Анна хорошо помнила, что вечером подъехала на санях к местечку Сизовражье, где сначала намеревалась остановиться на ночь. Но все помыслы Анны уже были сосредоточены на Петербурге, до него – рукой подать, ведь от Сизовражья, русского поселения недалеко от старинного ливонского городка Кюльта до столицы российской империи по хорошей морозной погоде меньше одного дня пути. В дороге она не раз воображала себе, как встретит ее Петербург. Ей почему-то очень хотелось въехать в родной город на рассвете, чтобы он был пустынным и тихим, каким она всегда любила его. По всем расчетам Анны, если бы она заночевала в Сизовражье, то такое ее желание трудно было бы осуществить. Тогда она приезжала в Петербург вечером. Потому она попросила кучера не останавливаться в Сизовражье, а ехать за двойную плату ночью. Тот нехотя согласился.
Читать дальше