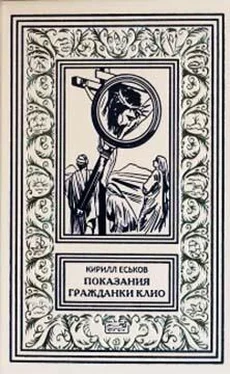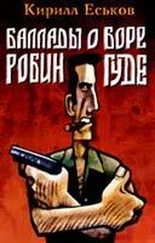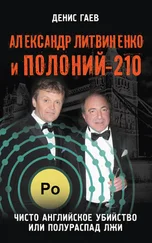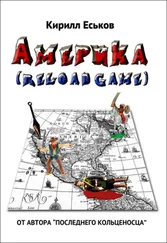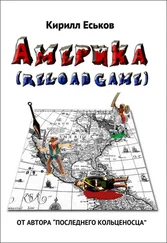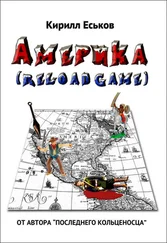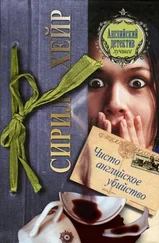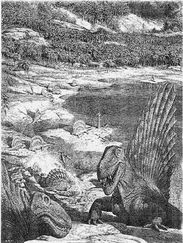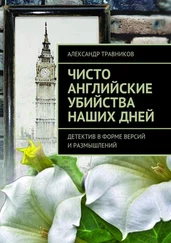Переходя «от персоналий к институтам», напомним два вполне революционных принципа, на которых строил работу своей Службы сэр Фрэнсис: во-первых — «Порядок бьет класс», а во-вторых — «Информация обязана быть своевременной». Если ценнейшие сведенья, добывая которые вы «раздали тридцать килограммов золота и потеряли четверых агентов», опоздали к дедлайну — сиречь к моменту принятия военного или политического решения — их можно спокойно выкидывать в мусорную корзину. (Вспомним тут хоть соответствующий эпизод из финала «По ком звонит колокол», хоть реальную историю времен Первой мировой войны с Вегелем — агентом «Сюртэ» в германском Генштабе: информация-то от него шла превосходная, но вот воспользоваться ей при разработке собственных операций французский Генштаб так ни разу и не успел .) Откуда встает во весь рост проблема бесперебойной связи.
Как учит нас в своем производственном романе некий беглый советский разведчик: «Девяносто процентов провалов в разведке — это провалы на связи. Связь бывает личная и безличная. Горят и на той, и на другой». Так вот, Уолсингему удалось отстроить систему связи с удивительно удачным балансом противоречивых качеств: «скорости прохождения сигнала» и его «защищенности»; «адаптивный компромисс» в теории эволюции — как раз про то самое. Называлась она скромно — «Курьерская служба», но на ней не экономили ; там не только начинали карьеру едва ли не все сотрудники сэра Фрэнсиса, но иной раз и заканчивали — в совсем ином, понятно, статусе.
А как именно это всё было упорядочено — с тем, чтобы «Порядок бил класс» — хорошо описано вот тут:
«По структуре тогдашняя секретная служба сильно отличалась от нынешних аналогичных учреждений. (Я говорю не о „глазах и ушах“ на местах, о госкурьерах и дипломатах, т. е. гражданах, которые занимались темными делами в дополнение к основной профессии, а о собственно разведчиках.) Так вот. Внизу было дно — шпана, шушера, провокаторы, доносчики, распространители слухов. Их было очень много. Их использовали и выбрасывали по мере надобности. Почти ничего не платили, часто просто брали на испуг.
Техническим обеспечением — просеиванием информации, подготовкой операций, кодами и шифрами, бухгалтерией — занимались чиновники: государственные служащие с опытом административной работы, привлеченные или переведенные из других ведомств. Многие из них „расцветали“ на новом поприще — так, правой рукой Уолсингема был бывший счетовод Томас Фелиппс.
Контролерами, ведущими операций [case officers — авт .], „хозяевами“ резидентур были джентльмены, как правило, чьи-то родственники — это был такой же способ делать карьеру, как армия или флот; к тому же, со временем из разведки можно было перебраться на приличную собственно придворную должность. Работа в разведке давала связи, опыт, знания, очень приличные деньги. И брали в Intelligence с большим разбором. (Классический пример такого джентльмена — сэр Томас Уолсингем, дальний родственник и доверенное лицо Госсекретаря сэра Фрэнсиса, друг, покровитель и некоторое время непосредственный начальник Марло. После смерти Уолсингема-старшего вышел из дела.)
И последняя группа. Самая маленькая. Оперативники. Те, кого посылают за информацией. Те, кто возвращается с информацией. Те, про кого точно известно, что они принесут добычу домой, нигде не останавливаясь по дороге. Это очень высокое доверие, очень большие деньги, очень опасная работа и никакой защиты в случае провала. Состав исключительно пестрый: от старого дворянства, вроде Николаса Трогмортона, до сыновей торговцев и ремесленников — вроде Кита Марло. Но были и некоторые объединяющие черты: высшее образование (как правило, юридическое или гуманитарное), независимые (от разведки) средства к существованию (тот же Марло зарабатывал очень прилично), про умственные способности и не говорю. Их мало — в обеих соперничающих службах едва насчитываешь три десятка. Они на вес золота» (конец цитаты).
Так вот, именно к этой, последней, категории, элите «Интеллигентной службы», и принадлежала компания джентльменов, учинивших в Дептфордском пансионе ту пьяную драку из-за копеечного счета; смешно, не правда ли?..
Действующие лица и исполнители: «Бонд, Джеймс Бонд!»
Как известно, Англия — кошмарная страна: в ней не пропадает ни один документ, и Папаше Мюллеру с его бессмертным: «Страшная штука эти архивы!» жилось бы там крайне неуютно. То есть на бумагу там, как и везде, попадает не всё, но уж если попало — можно быть уверенным, что бумажку ту не спалят при очередной чистке архивов в ходе «трансфера власти» от Дракона к Бургомистру, или при гос-необходимости обосновать, что «Океания всегда воевала с Остазией»… Так вот, принадлежность Марло к Конторе чисто случайно выплыла наружу в процессе разбора скучнейших «входящих-исходящих» в архивах Кембриджа.
Читать дальше