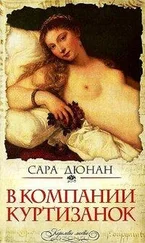Я стою достаточно высоко и замечаю ее, как только она показывается на кампо , выйдя из-за угла. Похоже, на ней праздничная одежда — светло-голубое платье, кажется новое (или я никогда раньше его не замечал), с широкой юбкой и кружевной оторочкой, голова покрыта платком того же цвета. Она опирается на палку (я несколько раз уже видел ее с палкой) — так ей легче передвигаться, потому что она ощупывает землю перед собой и быстрее обнаруживает препятствия. Впрочем, здесь люди узнают ее и сразу расступаются. Но вот, когда она уже на полпути ко мне, к ней подходит какая-то женщина, и хотя мне не слышно, о чем они говорят, по воинственной позе женщины и по тому, как она преграждает Коряге путь, можно догадаться, что встреча эта не из приятных. Я встаю, готовясь поспешить Коряге на помощь, — хотя чем я могу ей помочь? — но вскоре их разговор заканчивается так же внезапно, как начался, и вот она уже у ступенек, ее палка простукивает камни.
— Я здесь, — говорю я, и она поворачивается ко мне с той странной легкой улыбкой — улыбкой, которую ей не дано увидеть самой, но которая словно говорит мне о том, что она и так знала, что я здесь. Глаза у нее закрыты — иногда она не открывает век. Мне кажется, она должна испытывать боль, если держит глаза открытыми; я замечал, что в таких случаях она никогда не моргает, из-за чего еще больше становится не по себе, когда видишь эту молочно-густую пустоту, особенно впервые. Я как-то не задумывался раньше о том, как она чувствует себя, но теперь, после недавно перенесенных страданий, я невольно пытаюсь сравнить их с тем, что испытывают другие.
Кончик палки упирается в мою ступню, и она садится на ступеньку рядом со мной. Мы с ней никогда не встречались вот так, на улице. Вокруг нас горожане веселятся, празднуют, шумят, пируют; день явно чреват множеством последствий.
— Как вы отыскали мой дом? — Ее голос звучит теперь мягче, он такой, каким я его помню.
— Ну, вас тут все знают.
— Вам уже лучше, да? Раз вы такой путь проделали.
— Да, лучше.
— Но слабость еще, наверное, осталась.
— Не знаю… Мауро хорошо меня кормит.
Она кивает. Я вижу, как ее пальцы играют с набалдашником трости, и вдруг понимаю, что она тоже волнуется, сидя здесь со мной наедине. Сколько лет мы уже знакомы? И как мало мы знаем друг о друге.
— Я… я пришел… Я пришел поблагодарить вас.
Она наклоняет голову, и ее улыбка делается немного озадаченной.
— Да я ничего особенного не делала. Болезнь шла своим чередом. Я только помогла вам побороть горячку.
— Нет, — возражаю я, — мне кажется, вы гораздо больше для меня сделали. — Я замолкаю. — А иначе… иначе я бы совсем лишился рассудка… от боли.
Она кивает:
— Да, когда боль зарождается внутри головы, она почти невыносима.
Я снова думаю о ее глазах.
— Вы мне однажды говорили об этом. Откуда вам про это известно?
— Я… мне встречались другие люди с такими недугами.
— Эти боли мучили меня в детстве.
— Это из-за формы вашего уха.
— Да, и об этом вы мне говорили. Вы изучали подобные случаи?
— Немного.
Пока она говорит, я гляжу на нее в упор. Кожа у нее очень бледная и гладкая, ресницы кажутся бахромой на полумесяцах опущенных век. Моя госпожа рассказывала как-то раз, что Тициан, увидев ее однажды в нашем доме, пожелал написать ее портрет, потому что увидел в ее облике нечто таинственное. Неудивительно. Годы почти не состарили ее, и лицо ее излучает странный свет, а мысли и чувства как будто пробегают по нему, как непрерывно меняющаяся погода. Тициан прав — она действительно могла бы пригодиться ему для какой-нибудь картины на религиозный сюжет, и уж он-то сумел бы запечатлеть этот внутренний свет, потому что он, похоже, видит душу человека так же ясно, как и телесную оболочку. Но она равнодушна к бессмертию, во всяком случае, к такого рода бессмертию, какое может подарить ей художник, и когда он предложил ей позировать ему, она наотрез отказалась. Мне это понравилось, хотя до сих пор я этого, похоже, не сознавал.
— Как поживает Фьямметта? — спрашивает она через некоторое время.
— Она… Даже не знаю, какие подобрать слова… Спокойная, сдержанная. Вы знаете, что мальчишка уезжает? Она вам говорила?
— Да. Об этом стало известно, когда я была у вас.
— Она грустит, — добавляю я. — Но она ведь исцелится? — Я хотел произнести последнюю фразу утвердительно, но она прозвучала как вопрос.
— Если рана чиста, то не так страшно, если даже она глубока, — отвечает Коряга. — Гангрены нужно опасаться только при неразделенной страсти.
Читать дальше