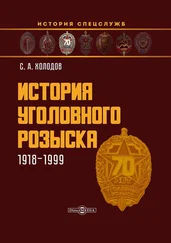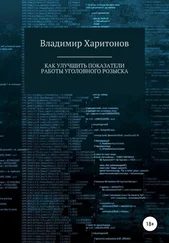В капризных, не подчиняющихся никаким закономерностям, изломанных и в то же время округлых линиях переплетений было всё: сказка и реальность, прошлое и настоящее, безудержная радость и непереносимая боль, Восток и Запад.
Мчались из тьмы веков в гари пожарищ низкорослые монголы на мохнатых лошадях, играл ветер кудрями бесшабашного Васьки Буслаева, летела по синему безоблачному небу, распустив хвост радуги, огненная жар-птица.
Мелодично звенели колокола московских храмов, слепила глаза роскошь византийских дворцов, и в самой глуши дремучих рязанских лесов возвышались египетские пирамиды и трубили индийские слоны.
Вышитый подковой старорусский узор не охватывал нижнюю часть портрета. Орнамент как бы рассекался дугообразными мощными крыльями двуглавого, трижды коронованного орла. Широкую грудь царственной птицы закрывал от шведов, турок и прочих ворогов тяжёлый кованый щит московского герба, окружённый такой же массивной золотой цепью первого русского ордена, учреждённого «бомбардиром Петром Алексеевым». Тут же косой Андреевский крест с наручной печати того же бомбардира. В цепких когтистых лапах орла тяжёлая ручка скипетра и земной шар державы.
Из рамы орнамента, совсем невесомый, воздушный, будто возникший в нашем воображении, на нас удивлённо смотрел своими широко расставленными глазами («А вы откуда здесь взялись?») только что явившийся из былины в Преображенский полк нереальный в своей обыденности, добродушный богатырь. «Ну-ну, где тут Соловей-разбойник посвистывает? Что-то не видать… Да уж ладно, посплю час-другой, покуда сказка сказывается, а уж потом… Ежели не уберётся подобру-поздорову, вобью его, стервеца, по маковку в сыру землю да и поеду неторопко к стольному князю Владимиру Красное Солнышко. Заждался небось…»
Но в плотно сжатых губах богатыря, одетого в преображенский мундир с орлёными пуговицами, и в его позе угадывалось напряжение: кончилась вольница! Теперь уж богатырь не сам по себе, а на царской службе. И Пётр Лексеевич — не князь Владимир, земля ему пухом. При Петре Лексеевиче не до сна, при нём ухо на карауле держи. Чуть что не так — то и палок отведаешь. Так что хоть ты и богатырь, но не какой-нибудь, а царский, первый российский солдат, словом. Потому и на портрете дисциплину армейскую блюди: плечи назад, грудь вперёд, руки по швам. Смирна-а!
— Мастерицы-то каковы, а? — наслаждался произведённым на меня впечатлением Шлягин. — Это вам, уважаемый, не всякие там Европы. Русь-матушка! Шелками — что красками…
Действительно, ничего похожего, голубчик, я раньше не видел.
Портрет Бухвостова поражал тонкостью и тщательностью работы вышивальщиц, точной передачей характера, воздушностью, а главное — поразительной гармоничностью колорита и великолепным рисунком. Ведь следует сказать, что немногие художники даже с мировым именем соединяют в себе таланты рисовальщика и колориста.
Шлягин, которого я бы назвал человеком «купеческой складки», не без гордости сказал нам, что посетивший в прошлом году Петербург американский собиратель и знаток вышивок Генри Мэйл предлагал ему за портрет Бухвостова пятнадцать тысяч долларов, сумму по тем временам солидную.
— А ежели поторговаться, — сказал Шлягин, — то и все двадцать бы отвалил.
— Что же вы не продали? — поддразнил я, надеясь в глубине души услышать от него что-нибудь умилительное. Но, увы, не услышал.
— Да у меня и своих деньжат хватает, не обездолен, — откровенно объяснил он свой отказ от сделки. — А удовольствие своё я на том имел. Купил-то я эту вещицу за сколько? За тысячу рубликов. Не бог весть какие деньги, а мне: «Переплатил, Иван Ферапонтович». Ну, и сомнения всякие. Не денег, понятно, жалко, а достоинства купеческого. А выходит, не прогадал Шлягин. Вон как! Да, хорошая вышивка в хороших руках — капитал. Ба-альшой капитал! Мне за этот самый шёлковый портрет, ежели желаете знать, через пяток лет и пятьдесят отвалят, только продай, Иван Ферапонтович. А я — шиш, ста ждать буду… — засмеялся Шлягин.
Но, несмотря на свой трезвый подход к неизбежному росту цен на произведения искусства, Шлягин в своих прогнозах всё-таки ошибся: через «пяток лет» никто ему пятидесяти тысяч за арсеньевский портрет не предложил… Через «пяток лет» грянула революция. И в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР все предметы искусства, имеющие художественную ценность, были объявлены собственностью народа.
И всё же, как вскоре выяснилось, злорадствовал я зря. Купец проявил должную предусмотрительность. Отправившийся в особняк Шлягина Тарновский — как специалист по художественным вышивкам он был по моей рекомендации привлечён к реквизициям, которыми занималась Комиссия по охране памятников искусства и старины Петроградского Совдепа, — вернулся ни с чем.
Читать дальше
![Юрий Кларов Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями] обложка книги](/books/268700/yurij-klarov-pyat-eksponatov-iz-muzeya-ugolovnogo-ro-cover.webp)
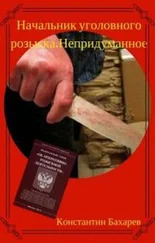
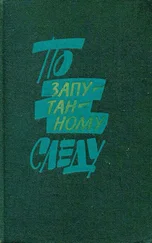
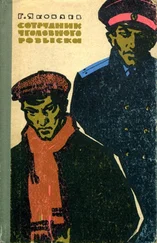


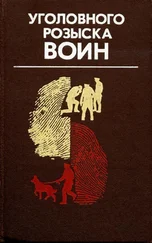
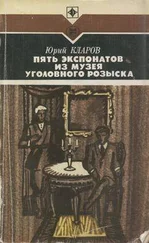
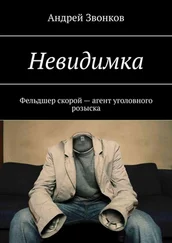
![Николай Гацунаев - Дело уголовного розыска [Невыдуманные рассказы]](/books/417722/nikolaj-gacunaev-delo-ugolovnogo-rozyska-nevyduma-thumb.webp)