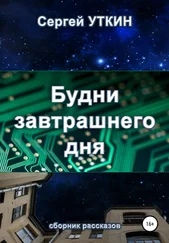«Вы хотите, как говорят, похитить маленького дофина, возлюбленное дитя всей нации, и оставить нам другого ребенка вместо него, в точности на него похожего. Но чему послужит эта хитрость? Мы будем ценить того, кто останется с отцом, мы будем защищать его до последней капли крови, и мы также будем иметь полное право заявить, что вы увезли с собой какого-то мелкого ублюдка, чтобы легче перенести отсутствие вашего настоящего сына возле себя, — а настоящий остался с нами. И хороши же вы тогда будете с вашим ублюдком! <���… >
Но кто вам сказал, что Учредительное собрание не разрешает разводов? Что мы не сможем найти нашему славному толстяку-королю порядочную жену вместо вас, которая будет думать так же, как и он, которая станет настоящей королевой свободного народа?»
Между тем как Учредительное собрание обсуждало участь королевских теток, задержанных в Арне-ле-Дюк, в предместье Сен-Антуан вспыхнуло восстание. Революция возвращалась, санкюлоты снова собирались на штурм Бастилии, которую некогда не успели взять. Увидев любую преграду, они тотчас же бросались ее разрушать.
В Тюильри собрались примерно четыреста аристократов, чтобы защитить короля и его семью. Но единственным их оружием были кинжалы — Лафайет, окончательно предавший свой лагерь, приказал разоружить дворян. В конце этой бурной, заполненной событиями недели стиль Эбера завершил свою метаморфозу: из смешного он стал угрожающим. Впервые папаша Дюшен потребовал смерти: он захотел, чтобы повесили принца Конде, предводителя эмигрантов. Он захотел увидеть принца «босым, с непокрытой головой, в одной рубашке, с веревкой на шее, идущим к могиле, чтобы закончить свою гнусную жизнь так же, как покойный фавр».
Всего за три месяца газетный щелкопер превратился в политика. Опьяненный могуществом своих слов, он становился все более кровожадным:
«Все те сволочи, которые его сопровождали, мечтающие устроить себе праздник по возвращении: жечь наши дома, насиловать наших жен и дочерей и убивать всех порядочных граждан, — все эти висельники, этот подлый сброд в синих, красных и зеленых лентах, эти королевские прихвостни и их шлюхи подвергнутся той же участи; Бурбон, его сын, и герцог Энгиенский, его внук, будут при этом присутствовать. Это зрелище послужит им великим и страшным уроком и навсегда излечит их от желания строить заговоры против своей страны».
Мы видели, как Эбер забрал Франсуазу Гупиль из монастыря, где она провела полгода. Эта замечательная женщина принесла ему в приданое наследство своих родителей, а также все, что оставил ей бывший покровитель-аристократ. Кроме того, она получила из кассы Национального достояния ренту в семьсот ливров — как освобожденная от церковного гнета монахиня. Если безбожная нация была жестока к священникам, то заблудшие души она вознаграждала со всей щедростью.
Миновав сверкающий зенит своей славы, Революция разрушила все возможности прогресса на десятки лет вперед. Речи о свободе стали основным производством и последним национальным богатством. На вершине этого невиданного прежде общественного устройства обосновалась новая элита, состоявшая из председателей секций, депутатов и журналистов, которые творили и восхваляли Революцию, главный двигатель социального лифта, вознесшего их наверх. Некоторые из них, самые амбициозные, создавали легенды своего восхождения к власти, которые печатались в газетах. Среди этих персонажей Эбер был еще не самым заметным.
Франсуаза верила в него, как в доброго Боженьку в детстве. Революция представлялась ей чем-то вроде библейских страстей в современной обстановке. Она записалась в женский клуб, благодаря чему стала поставщиком ценной информации для Эбера: она приносила новые анекдоты и слухи, которые становились основой для гневных или шутливых речей папаши Дюшена.
Памфлетисты Революции, от Ривароля до Марата, были далеки от мира женщин, не имели ни малейшего влияния на них и не пытались его приобрести, поскольку не понимали слабый пол и даже отказывали ему в праве голоса. Женщины годились только на то, чтобы собираться на улицах и молоть языком, а однажды они даже отправились со своими разговорами к королю в Версаль, — ну и отлично, а серьезные дела не для них.
Выдумав нового персонажа, на сей раз женщину по имени Жаклин, Эбер, по сути, создал первую и единственную в революционной памфлетистике супружескую пару, чем окончательно победил всех своих конкурентов. Вначале он не стал делать Жаклин слишком заметной, но от номера к номеру она все чаще появлялась рядом с папашей Дюшеном, и ее образ вырисовывался все четче. Вдохновляясь совместной жизнью этих двух персонажей, Эбер исподволь создавал, словно фон для политических выступлений, единственный семейный роман Революции.
Читать дальше

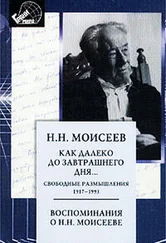



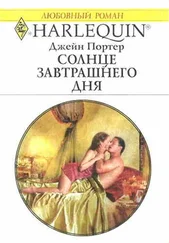

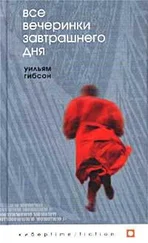

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)