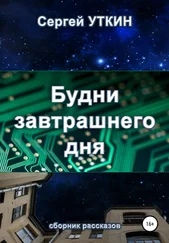Муки ребенка-короля стали муками всех детей, и если Гюго выдумал Козетту и Гавроша, то ради того, чтобы ввести в тему Людовика XVII республиканскую ноту. Двое детей — символов французского девятнадцатого века — это республиканский ответ на смерть ребенка-короля. Проза в ответ на стихи. Жестокость четы Тенардье как параллель с жестокостью семьи Симон. Тенардье — это те же Симон, но действующие на законном основании.
Миссия была выполнена: столетие спустя после появления «Отверженных» все маленькие французы мечтали умереть на парижских баррикадах и при этом не знали ничего об участи Людовика XVII.
«Отверженные» стали в период Республики тем ластиком, который стер память об убийстве ребенка-короля. В то же время этот роман восстановил престиж французской литературы. Ибо слово — то, что было неприемлемым в революционном монархоубийстве, — стало мощным оружием. Писатель-убийца — для сторонников прогресса это что-то немыслимое. Ирония судьбы в том, что вымышленные персонажи романа, Козетта и Гаврош, в историческом смысле стали реальными, тогда как реальный Людовик XVII исчез практически из всех учебников истории.
Неужели авторы этих учебников не отдают себе отчет в той скорби по умершему ребенку, в которую погрузилась Франция после Революции? Но ведь именно посредством культа этой жертвы французы могли бы понять друг друга, независимо от классов, конфессий и литературных пристрастий.
Для историков словно бы оказалось невозможным открыто признать всю жестокость, проявленную по отношению к ребенку, — они никогда не считали Людовика XVII ни выдающейся исторической фигурой, ни, тем более, главной жертвой Революции. Облекаться в траур историки предоставили писателям.
При этом, не замечая ребенка из Тампля, историки не видят и Эбера. Может быть, их это устраивает? Очевидно, да, поскольку, раскрой глаза, они увидели бы нечто невыносимое: убийцей ребенка был писатель. То есть, по сути, один из них.
Вопреки тому, что Анри сообщил Симону Лешенару, фильмы о Людовике XVII существовали. Симон недавно нашел информацию о них в Интернете. Это были немые фильмы. Самым первым был «Ребенок из Тампля», снятый в 1910 году и, очевидно, навсегда утраченный. Но были «Ребенок-король» Жана Кемма, 1923 года, с Антоненом Арто и Жюльен Батай в эпизодах, снятый по роману Пьера Жиля. За романом Анри поспешил в библиотеку. Это была история похищения ребенка-короля Ферзеном. Ничего интересного, пришел к выводу Анри, в который раз о самом ребенке почти не говорилось. Сколько бы они все ни снимали фильмов и ни писали книг — всякий раз, словно под воздействием какого-то колдовства, у них получалась история побега.
По прошествии нескольких дней после смерти старшего сына король вызвал к себе аббата д’Аво, чтобы поручить ему заботу об образовании Нормандца, нового дофина, которому тогда было четыре года.
«Вам надлежит сформировать сердце, ум и тело этого ребенка, — писал ему король. — Следуя стезей Фенелона [5] Фенелон, Франсуа (1651–1715) — французский писатель и религиозный деятель, воспитатель герцога Бургундского, внука Людовика XIV.
, научите его, что миролюбивые государи — единственные, кто остается в религиозной памяти народов. Как можно чаще рассказывайте ему о славных деяниях его предков, но не упускайте случая упоминать и о тех правителях, которые покровительствовали торговле и ремеслам, а также о тех монархах, которые желанны народам, — а не только о тех, которых Истории угодно было над ними поставить. В то время как ваш юный ученик будет постигать искусство правления, позаботьтесь о том, чтобы все его помыслы отражались в зеркале истины, призванном напоминать ему, что он поставлен над другими людьми лишь с одной целью — сделать их счастливыми».
Вот так изобличает Людовик XVI все десять столетий правления Капетингов.
С появлением Генеральных штатов, учрежденных Национальным собранием, с победой третьего сословия, фактически осуществившего государственный переворот, король понял, что теперь он монарх лишь до поры до времени. В конце концов, пятнадцать лет правления — совсем немало для человека, который совершенно не стремился к власти. Но теперь он хотел передать страну хорошему, честному монарху, любимому своим народом. Он представлял себе Нормандца в десять, потом в пятнадцать лет, пышущего здоровьем и полного рассудительности — воплощенную надежду европейской славы. И американской — почему бы и нет? С войнами покончено; если правитель богат и могуществен — войны ему не нужны. Когда этот красивый и умный принц женится на европейской принцессе, разве не настанет тогда вселенский мир?
Читать дальше

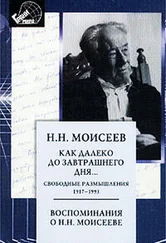



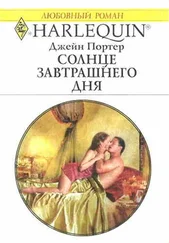

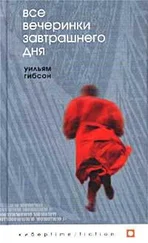

![Светлана Рощина - Небо завтрашнего дня [litres самиздат]](/books/436859/svetlana-rochina-nebo-zavtrashnego-dnya-litres-samiz-thumb.webp)