— Произнеси ты имя Дамаша хоть во сне…
Дамаш принял из рук доминиканцев кошель золотых соверенов и раскрыл убежища всех наиболее почитаемых членов общины? И первым назвал имя Авраама Зарко?
Но умел ли Дамаш убивать как шохет ?
Я перевел взгляд на лестницу. Свет, падавший сверху, отражался от плиток мозаики на восточной стене, раскрывая узор из двенадцатилучевых звезд, которые, казалось, таили в себе какую-то загадку. Звезды. Свет. Узор. Тайны. Годы изучения Торы и Талмуда научили меня прислушиваться к ощущениям, когда разум отказывался нащупать логику в мысли как греков, так и евреев, и я начал выискивать четкую последовательность в узоре, чтобы очистить голову.
Рассматривая завитки голубых, белых и золотых стеклышек, я переставлял буквы в слове azulejo , плитка, пока окончательно не утратил его смысл, пока не остался только прикованный к глянцевой поверхности взгляд. Окрыленное свободой пустоты, осознание вздернуло меня на ноги, заставив задохнуться: восставшие христиане не могли убить дядю, ведь люк подвала был закрыт, и лоскутный персидский ковер был расстелен, как положено. Неистовствовавшая банда не стала бы, прикончив двоих человек, аккуратно закрывать за собой дверь и укладывать на место ковер. Они, опьяненные кровью евреев, обагрившей их руки, вылетели бы из подвала, круша все, что попадется под руку, а сам подвал превратили бы в руины!
Я огляделся, чтобы убедиться, что в комнате не ступала нога христианина. Столы и шкаф были в неприкосновенности. Из всей мебели только на кривом зеркале над дядиным столом было видно пятно крови. Одна-единственная струйка запекшейся крови легла дорожкой от верхнего края рамы через всю вогнутую серебряную поверхность.
Убийца прикоснулся рукой, с которой стекала кровь, к раме зеркала, пялясь на свое искаженное отражение? Или легенда о Кровоточащем Зеркале — вовсе не вымысел?
Как бы то ни было, христиане сюда не входили: они не смогли бы обнаружить спрятанный под ковром люк.
«И ни одного еврейского мясника здесь тоже не было!» — пришло новое озарение. Поскольку ни один мясник не знал о существовании нашего тайного убежища. Не знал о нем и Эурику Дамаш. Значит, люк, возможно, был открыт. Но мог ли дядя быть столь неосмотрителен?
Я положил ладонь дяде на грудь, словно ища ответа в его присутствии. Чуть заметные остатки тепла заставили меня затаить дыхание. Я снова принялся искать следы на его теле, но обнаружил только еще один темный припухший кровоподтек на левом плече. Его бледная кожа была на ощупь плотной, словно дубленой, но еще хранила живую эластичность.
Мне пришло в голову, что он умер не более получаса назад, после четырех часов пополудни. И он боролся за свою жизнь.
Я схватил его за руку, руку учителя и иллюстратора, и принялся изучать ее поры и линии, словно пытаясь расшифровать таинственные письмена древнего манускрипта. Неожиданно, впервые за всю свою жизнь, я по-настоящему почувствовал, что Бог оставил меня. Закрыв глаза, я начал молиться, чтобы кровавое облачение дяди было всего лишь иллюзией, сосчитал до пяти — по количеству Книг Торы — и снова посмотрел на дядю… Горло сдавил спазм, словно чья-то сильная рука душила меня. Я не мог на него смотреть: я разразился глухими, горькими, бесконечными рыданиями.
Сколько я плакал? Время сжалось под напором переживаний.
Когда благословенная тишина снова окружила меня, я сел, раскачиваясь взад и вперед. Мне вспомнился глухой и слепой мальчик, который вот так же раскачивался, сидя посреди улицы. Теперь я понял, почему. Пронизанное изоляцией и безграничным, бездонным одиночеством, тело ищет утешения в ритмичности собственных движений.
Очнувшись, я обнаружил, что держу в руках осколок кувшина. Я подвинулся и сел на уровне груди учителя. Разорвав рубаху, принялся стирать пятна крови с его застывшего бессмысленной маской лица. Губы беззвучно, как заклинание, без конца повторяли его имя.
Я заметил окровавленное молитвенное покрывало, комом валявшееся рядом с одним из букетов мирта, и накинул его себе на плечи. На память. О чем — я не имел ни малейшего представления. Я сидел полуголый. Меня трясло. Оттирал чернила с пальцев его правой руки лоскутом рубахи, снимал перстень с топазовой печаткой. Сохраненное Божьим умыслом, в глубине топаза искрилось изумрудное тепло глаз моего наставника, а мне оно нужно было всегда — и особенно теперь.
Прошептав кадиш над ним, а затем и над девушкой, я стал оттирать его левую руку. За ноготь большого пальца зацепилась одна-единственная ниточка. Поднеся ее к глазам, я обнаружил, что это черный шелк. Имя, всплывшее где-то на крае сознания, вырвалось шепотом: Симон Эаниш , импортер тканей.
Читать дальше
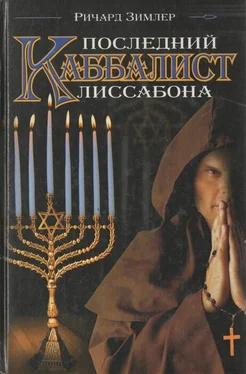


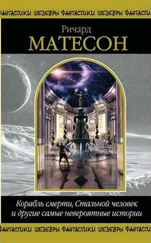
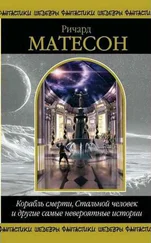


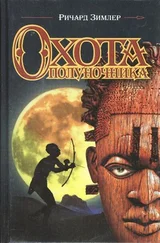

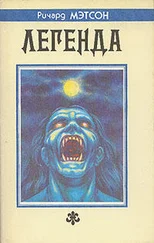

![Ричард Артус - Последний военный демократ [СИ]](/books/421040/richard-artus-poslednij-voennyj-demokrat-si-thumb.webp)
