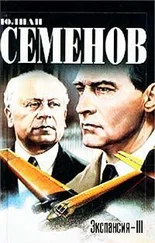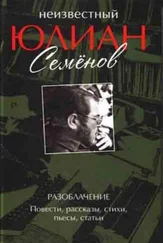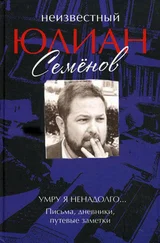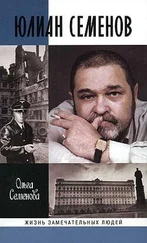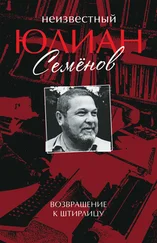— Обязательно. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования.
— Это ведь не наша прерогатива, Феликс, это обязанности правительства — удовлетворить ваши экономические требования.
— Что Витте без вас может?
— Мы постоянно подвергаем его критике.
— Мы тоже.
— Значит, есть поле для переговоров.
— Нет. Вы требуете от него линии, которая бы активнее защищала ваши интересы, а мы жмем слева — совершенно разные вещи.
— Дайте нам привести в Зимний серьезное, по-настоящему ответственное министерство — мы сразу же вдохнем жизнь в промышленность… Каковы будут ваши требования, Феликс, если мы сможем поставить на место Витте мудрого политика?
— Восьмичасовой рабочий день, социальное страхование, свобода для профессиональных союзов, повышение заработной платы.
— До какого предела?
— До такого предела, чтобы дети не пухли с голода. До такого предела, чтобы семья из пяти человек могла иметь хотя бы две комнаты. Вы губите поколения, заставляя спать на нарах, в одной конуре, бабку, мать с отцом и двух детей, вы поколение развращаете и калечите с малолетства, Кирилл.
— Согласен, но мы же не можем все дать! Государство подобно живому организму, тут иллюзии невозможны! Мы хотим дать, очень хотим!
— Что именно? — Дзержинский подался вперед. — Что? Вы сможете отдать лишь то, что мы вынудим, Кирилл: я не вас лично имею в виду, но поймите — среди рабов нельзя жить свободным, вы не можете существовать отдельно от того класса, представителем которого являетесь, — свои же сомнут.
— Феликс, забастовки разрушают не царский строй, а страну. Чем больше бастующих, тем меньше продукта, чем меньше продукта, тем беднее государство. О каком удовлетворении требовании может идти речь, когда в банках денег нет из-за ваших страйков?!
— Денег нет из-за того, что все средства шли на войну, на двор, на полицию!
— Не мы эту войну начали.
— А кто же? Мы?
— История неуправляема, Феликс.
— Зачем же тогда хотите взять власть, если не верите в управляемость истории? Это очень легко и удобно — уповать на фатум.
— Не фатум, нет… Уповать надо на дело, на его всемирную общность.
— О какой всемирной общности может идти речь, если английский рабочий получает в двенадцать раз больше русского! Вашими методами постепенности Россию с мертвой точки не сдвинешь. Вас засосет та же бюрократия, которую вы так бранили раньше.
— Мы ограничим права бюрократии. Это в наших силах.
— Кирилл, мы не сговоримся с вами.
— Значит, раньше, когда бежали из Сибири, могли сговариваться, а сейчас, когда набираете силу, не сможем?
— Силу набираем не только мы — вы тоже. В этом — суть. Происходит поляризация сил, Кирилл, и это — логично, это развитие, против этого мы с вами бессильны.
— Не делайте из прогресса фетиша, Феликс. Прогресс идет постольку, поскольку в его поступательность вкладывают старание все люди.
— Верно. Но за это старание вы получаете сто тысяч рублей в месяц, а рабочий — двадцать пять.
До начала операции оставалось полтора часа.
«Я должен уйти, — подумал Дзержинский. — Мне надо быть очень спокойным на Тамке. А я начинаю сердиться. Лучше доспорить потом. А доспорить придется, иначе это нечестно будет. Николаев прав: когда было плохо — говорил, а сейчас — небрежение к доводам».
— Вы торопитесь? — спросил Николаев. — Я сказал Джону, чтобы он накрыл стол к шести.
— К восьми. А еще лучше к девяти.
— У вас в шесть «аппойнтмент»?
Дзержинский вдруг рассмеялся — напряжение сразу снялось.
— «Аппойнтмент», — повторил он, — да, действительно, встреча, только — в отличие от американского «аппойнтмента» — заранее не обговоренная… Как Джон Иванович?
— А что ему? Ему лучше, чем нам с вами. Американец… Он, между прочим, заражен вашими идеями… Я, знаете, глядя на него, американских философов вспоминаю. Они — занятны. Они верно утверждают, что если два человека придерживаются различных, во внешнем выражении, убеждений, но согласны на их основе действовать одинаковым образом, то нет никакой практически разницы в их позициях. Неужели мы с вами не можем так же, на основе переговоров, на основе эволюции, жить вместе, дружно жить?
— Это вы Пирса цитировали? Коли вы о нем, Кирилл, то не получится у нас вместе. Изначально не получится. Он интересен, Пирс, слов нет, не до конца еще проанализирован. «Человек — узелок привычек» — это занятно. Я помню Пирса, я в тюрьме его конспектировал, правда, во французском переводе. Он занятен, спору нет, особенно главное в нем: человеческое состояние определяется сомнением и верой; единственный мост между этими первоосновами — мышление. По Пирсу, мышление необходимо лишь для того, чтобы переступить грань сомнения и очутиться в области веры, открывающей путь к действию. В Америке его постулатами можно объединить группу организаторов, но ведь у них они есть, а у нас
Читать дальше