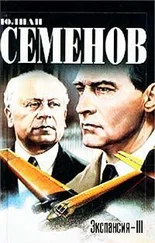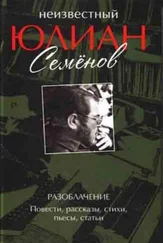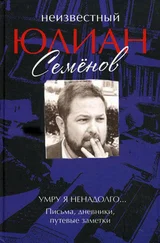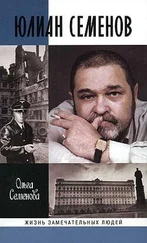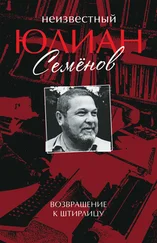Юлиан Семенов - Горение. Книга 2
Здесь есть возможность читать онлайн «Юлиан Семенов - Горение. Книга 2» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Исторический детектив, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Горение. Книга 2
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Горение. Книга 2: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Горение. Книга 2»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Горение. Книга 2 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Горение. Книга 2», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
… Через три часа Стефания пришла к Хеленке Зворыкиной и сказала:
— Мне надо повидать твоего литератора…
Хеленка погрозила пальцем!
— Потеряла голову?
— Хуже, — ответила Стефания. — Себя.
— Я не знаю, где он живет. Можно съездить к его знакомой…
— Любовница?
— Нет. Добрая подруга.
— Едем.
Несколько рапортов из папки Стефания взяла, когда Попов был в ванной, быстро спрятала в лиф, поняв до обидного ясно, что сумочку «любимый» проверит, и всегда, видно, проверял свою «прекрасную ледышечку».
4
Юлий Петрович Гужон, говоривший с едва заметным гасконским акцентом, читал текстильщику Рябушинскому и старику Осташову, обувщику, стишки, записанные на глянцевой картоночке:
— «Говорил на сходках, выбран в комитет, а теперь в решетку еле вижу свет! Пропала карьера, адье, университет, во всем потребна мера, в этом спору нет! Ты прощай, столица, всюду гладь и ширь, поезд, словно птица, помчит меня в Сибирь! Печатал бюллетени, им числа не счесть, а теперь пельмени мне придется есть… »
Гужон оторвал глаза от глянцевой картоночки, посмеялся, поясняюще уточнил:
— Называется «Исповедь либерального дворянина».
Рябушинский презрительно передернул острыми плечами:
— Нам, к счастью, не приходится исповедоваться таким образом; может быть, оттого, что наиболее умные из купцов никогда не гонялись за званием русского дворянина… Не вам одному, Юлий Петрович, стишки собирать — я тоже один особо люблю: «В тарантасе, в телеге ли, еду ночью из Брянска, все о нем, все о Гегеле, моя дума дворянская».
(Титул действительного статского советника и дворянство купцам жаловали в том случае, если они передавали Академии наук, в которой правила вдовствующая императрица, свои коллекции и галереи. Третьяковы отдали картины городу, открыли ворота для черни, поэтому были обойдены статским, а ведь это сразу же дворянство, это почет дает и приглашение на банкеты к губернатору, где не на хорах держат, а за главным столом, рядом с избранными. Бахрушин свой музей отказал академии, сразу в дворяне вышел, генерал, теперь ходит гордый, начал даже про «купчишек» подшучивать.)
— Алексеев туда же, в благотворительность ринулся, — вздохнул Осташов, — театр открыл, присвоил себе срамное польское имя — Станиславский. Верно про него говорят: «Сколько их, куда их гонят и к чему весь этот шум? Мельпомены труп хоронит наш московский толстосум! » От благотворительства не только к дворянству один шаг — к революции. Богдановские сынки вместо того, чтобы чай с отцом развешивать, бомбы делают, куда дело-то пошло, а?!
Гужон сразу же записал про Станиславского — коллекционировал рифмы.
Осташов достал старинные, потертые часы, открыл крышку, поглядел на циферблат:
— Не опаздывают?
— Еще десять минут, — откликнулся Рябушинский. — Время есть, — значит, опоздают. Мы, русские, чем больше времени имеем, тем шалопаистей им распоряжаемся, оно для нас вроде денег — несчитанное. Ничего, новая пора пришла, она научит время ценить, новая пора дала свободу — только б не свободу зазря терять время…
— Будто раньше тебе, Павел Палыч, свободы было мало. Ты по лошади бей — не по оглобле, чего бога-то гневить? Свобода… Хотели говорить
— говорили, собирались на ярмарке, в торговом ряду, в церкви — кто мешал-то? Нынешняя свобода — это свобода рушить… Макара Чудру столоначальником поставят, а Челкаша директором департамента приведут
— вот я посмотрю, как вы тогда запрыгаете, все вам, видишь, бюрократы мешали… Платить им надо было больше, лапу щедрей маслить — не мешали б…
— Ты чего бурчишь, старик? — хмыкнул Рябушинский, оглядывая зал биржи, заполненный московскими заводчиками и фабрикантами.
Подъехало на Ильинку огромное множество деловых людей, весь Китай-город запрудили экипажи; Морозов, конечно, припер на авто, как, право, не совестно, будто какой немец, нет скромности в человеке… Собрались на чрезвычайное совещание, так в приглашениях было напечатано; все знали, что произойдет, но, по обычной купеческой привычке, темнили друг перед другом, лобызались, божились в дружбе, но о деле ни гугу — ждали.
— Я не бурчу, — посмотрев, как и Рябушинский с Гужоном, в зал, вздохнул Осташов. — Гуди не гуди, все одно прокакали Россию. Вон анархисты говорят, что Думы не надо, что вред от нее, и я так же говорю.
Гужон и Рябушинский переглянулись изумленно.
— Да, да, в уме я пока, в уме. Крестьянин на выборы не пойдет — ему работать надо, да и путь по железке дорог; купчишке сельскому лень, он с похмелья страдает; культурному человеку противно толкаться в одном помещении с чернью. Кто ж остается? Пролетарий? А он, пролетарий-то, дурак! Разве он понимает, за кого голосовать? Тут ему ихние вожди себя и подсунут! И Плеханова коронуют, царем назовут! А немца Витте Троцкий заменит! .. Опохабили землю заводами, опохабили. Крестьянин зерно в землю кладет и ждет милости от бога — дождя и солнца. Кто бога чтит, тот царю слуга. А кто у фабричных бог? Машина. И на ту руку поднимали, станки громили. Не умеют власти держать люд на Руси, особо в то время, когда быстро поворачиваться надо, не умеют…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Горение. Книга 2»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Горение. Книга 2» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Горение. Книга 2» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.