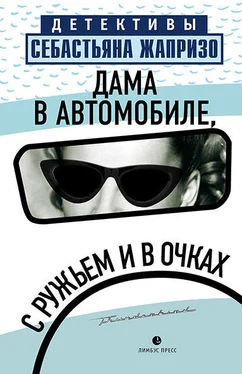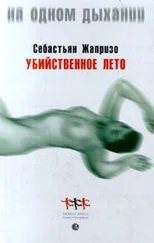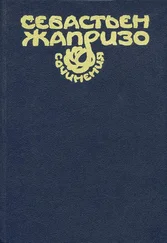1 ...8 9 10 12 13 14 ...25 Рядом также была авеню Тийель [18] Tilleul (фр.) – липа.
и, полагаю, авеню Маронье [19] Marronier (фр.) – каштан.
. Дом оказался именно таким, как я его себе представляла: красивый, большой, окруженный цветочными клумбами. Было самое начало восьмого. В листве прыгали солнечные зайчики.
Я помню, как мы приехали, звук наших шагов в предвечерней тишине. В холле с красным плиточным полом и огромным гобеленом с изображением единорогов горели все лампы, хотя было еще светло. Наверх вела каменная лестница, а на нижней ступеньке стояла маленькая белокурая девочка в голубом бархатном платье, отороченном кружевом, и лаковых туфельках – один носочек сполз вниз, она прижимала к груди лысую куклу и смотрела на меня, не мигая, каким-то отсутствующим взглядом.
Я подошла к ней, ругая себя за то, что не научилась принимать все, как есть, не создавая проблем. Нагнулась, чтобы поцеловать ее и поправить носочек. Она стояла молча, не реагируя. У нее были большие голубые глаза, как у Аниты. Я спросила, как ее зовут: «Мишель Каравель». Она произносила «Калавель». Я спросила, сколько ей лет: «Тли года». Я вспомнила о розовом слонике, которого собиралась ей подарить, но он остался в кармане пальто, а пальто осталось дома.
В эту минуту ее отец позвал меня в просторную комнату, из которой я практически больше не выходила. Там стояли диван и кресла из черной кожи, темная мебель, вдоль стен – стеллажи с книгами.
Большая лампа с карусельной лошадкой вместо подставки.
Я поменяла очки и попробовала отведенный мне «пулемет». Это была полупортативная машинка марки «Ремингтон» двадцатилетней давности и, в довершение всего, с английской клавиатурой. Но все-таки на ней можно было отпечатать шесть читаемых копий, Каравель сказал, что хватит четырех. Он открыл папку «Милкаби» – листочки, испещренные микроскопическим почерком (никак не могу понять, как такой амбал умудряется писать так мелко), и объяснил, с какими трудностями я могу столкнуться. Он еще должен был до фестиваля во дворце Шайо, непонятно зачем, заехать в типографию. Он уехал, сообщив, что Анита вот-вот вернется, и пожелал ни пуха ни пера.
Я уселась за работу.
Анита спустилась через полчаса – светлые волосы стянуты на затылке, в руке сигарета. Она сказала: действительно, мы не виделись уже целую вечность, как у тебя дела, у меня дикая мигрень, – все это произнесено на одном дыхании, при этом она успела оглядеть меня с головы до ног. В ней, как и раньше, чувствовалось какое-то внутреннее напряжение.
Она открыла дверь в глубине комнаты и показала мою спальню. Объяснила, что муж иногда там ночует, если работает допоздна. Там стояла огромная кровать, покрытая белой шкурой, а на стене висела увеличенная фотография голой Аниты, сидящей поперек кресла, – прекрасная фотография, видна даже пористость кожи. Я по-идиотски засмеялась.
Она повернула фотографию, приклеенную на деревянную раму, лицом к стене. Сказала, что Каравель оборудовал на чердаке любительскую фотолабораторию, но, кроме нее, ему больше никто не позирует. При этом она открыла другую дверь рядом с кроватью и показала мне ванную, отделанную черным кафелем. На секунду наши взгляды встретились, и я поняла, что все это ей смертельно скучно.
Я снова села за работу. Пока я печатала, она разложила на низком столике приборы, принесла два куска ростбифа, фрукты и початую бутылку вина. Она еще не была одета для приема. Спросила, не нужно ли мне еще что-нибудь, но, не дожидаясь ответа, пожелала ни пуха ни пера, пока-пока и исчезла.
Через какое-то время она возникла на пороге в черном атласном пальто, заколотом у ворота крупной брошкой, держа за руку дочку. Она должна отвезти ее своей матери, та живет рядом, на бульваре Сюше (я там бывала раза два или три), а потом поедет во дворец Шайо, муж будет ждать ее там. Она сказала, что они вернутся не поздно, потому что улетают в Швейцарию, но если я устану, то совсем не обязана их дожидаться. Я чувствовала, что, прежде чем уйти, ей хочется сказать мне что-то дружеское, но не получалось. Я поднялась, чтобы лучше видеть малышку и сказать ей: «Мишель, дорогая, доброй ночи». Уходя, она оборачивалась, не сводя с меня глаз и по-прежнему прижимая к груди свою лысую куклу.
И тут я начала строчить как пулемет. Два-три раза закуривала, но, поскольку не люблю курить, когда печатаю, в перерывах ходила по комнате, рассматривала корешки книг. На стене я обнаружила нечто явно выпендрежное, но интригующее – матовое стекло 30 х 40 сантиметров в золотой рамке, а вделанное сзади устройство проецировало на него цветные диапозитивы. Видимо, Каравель приспособил здесь один из таких приборов, которыми пользуются для показа рекламы в витринах. Фотографии менялись каждую минуту. Я увидела несколько рыбачьих деревушек, залитых солнцем, разноцветные лодки, из-за отражений в воде казалось, что их больше, чем на самом деле. Я не знаю, как называется этот прибор. Единственное, что я, дура безмозглая, могу утверждать, – эти фотографии сделаны на немецкой пленке «Агфаколор». Я уже так давно вкалываю в этом дурдоме, что не могу ошибиться в оттенках красного.
Читать дальше