Неожиданно двое конвоиров, сидевших напротив, встали и подошли к Марине. Один так ловко защелкнул наручники на руках за спиной, что Марина даже не успела понять, что происходит. Второй быстро накинул на голову черный мешок. Он был настолько непрозрачен, что, показалось, выключили свет. Но по таким действиям стало ясно, что сейчас вертолет совершит посадку.
Садилась винтокрылая машина стремительно. В животе ощущение было такое, что кишки, спеша и отталкивая друг друга, устремились через глотку наружу. Лопасти винтов еще не остановились, а Марину уже запихали в машину. Как только дверь захлопнулась, она тронулась. Ехали довольно долго. Дышать в мешке было очень тяжело. Наручники натерли руки. Но Марина предпочла потерпеть, чтобы показать, что у нее есть характер, она не напугана, и легко сломить ее не получится ни у кого. Машина остановилась. Наручники на запястьях расщелкнулись.
– Снимайте мешок, – послышался лязгающий голос.
После темного непрозрачного мешка даже полумрак фургона с наглухо затонированными окнами слепил глаза. Сидевший напротив мужчина с бородой и в темных очках протянул Марине пакет.
– Здесь ваши вещи, документы, деньги и билет. Регистрация на рейс начнется через пять минут. Всего доброго. Прощайте. – После этих слов мужчина буквально вытолкнул Марину из машины, которая тут же тронулась.
Щурясь от яркого света, Марина направилась к дверям аэровокзала. Внутри зрение уже адаптировалось к освещению, и она легко нашла стойку регистрации. Хотелось быстрее уже сесть в самолет, чтобы не привлекать к себе внимания. Без косметики, с непонятной прической на голове, в несвежей, практически домашней одежде Марина напоминала девушку после двухдневного пикника. Ей казалось, что абсолютно все смотрят сейчас только на нее. Хотя, по большому счету, людям, спешащим по своим делам, было совершенно безразлично, кто как выглядит. А вот девушки на регистрации, действительно, внимательно изучали странную пассажирку, улетающую в Москву, у которой не было с собой даже маленькой дамской сумочки. В аэропорту редко встретишь человека, улетающего в другой город, у которого весь багаж – это паспорт, билет, телефон и ключи. Но причин не пустить странную пассажирку на рейс не было, и вскоре Марина заняла свое место в салоне самолета.
Радиограммы из правления требовали немедленно возвращаться в порт. Этого же теперь уже в открытую требовала команда. Но капитан, окончательно потеряв чувство реальности, проигнорировал даже предупреждения механика об остатке минимального количества топлива для возвращения домой. И вот теперь судно, потеряв ход, дрейфовало по воле волн. Благо, ветер стих и не было опасности перевернуться, повернувшись бортом к волне. Капитан несколько часов не сходил с мостика. И даже сейчас продолжал неистово сжимать рукоятки штурвала. На все уговоры спуститься вниз, покушать, отдохнуть в каюте он никак не реагировал. Лишь невнятно что-то бормотал сквозь слезы, заливающие его глаза. Команда никогда еще не видела своего капитана в таком виде и находилась в некоторой растерянности. На сходке в кают-компании просили старшего помощника принять командование судном на себя, подать в правление сигнал бедствия, капитана пока отстранить от руководства. Но и старпом, да и команда в целом, понимали, что если капитан сейчас или чуть позже придет в себя, то им всем за самоуправство будет мало места. К тому же у руководства артели и так уже будет слишком много вопросов и по журналистке, и по промыслу. Единственным человеком, кто сможет уладить все эти вопросы, был Пантелеймоныч. Все это понимали. И команде никак нельзя было сбрасывать капитана со счетов.
Слезы произвольно, горячим потоком текли по щекам, застревая в усах, пропитывая каждую их волосинку. Константин Пантелеймонович уже машинально вглядывался в горизонт. Точнее, старался это делать. Но сейчас слезы мешали и так уже подсевшему от возраста и работы зрению различать что-либо в окружающем безбрежном пространстве. Только губы, не уставая, уже на протяжении полусуток твердили: «Прости меня, девонька, прости дурака старого». Иногда самому казалось, что сейчас забьется в истерике, как когда-то в глубоком детстве на руках у матери из-за пораненной коленки или поломанной игрушки. Взрослый, прожженный жизнью мужчина в этот момент ощущал себя беззащитным беспомощным младенцем. Поэтому слезы отчаяния, безысходности, глубокой вины, сожаления сейчас наполняли его просоленные морскими ветрами и прокуренные дешевыми табаками усы.
Читать дальше




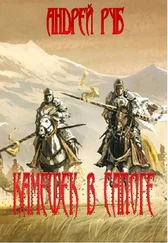

![Дарья Донцова - Чугунные сапоги-скороходы [litres]](/books/433045/darya-doncova-chugunnye-sapogi-skorohody-litres-thumb.webp)
![Игорь Росоховатский - Снять скафандр [= И снять скафандр...]](/books/438583/igor-rosohovatskij-snyat-skafandr-i-snyat-skaf-thumb.webp)

