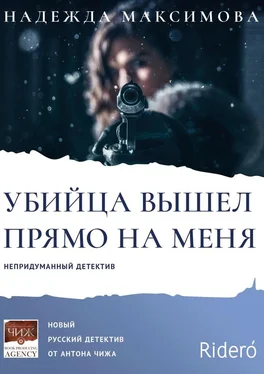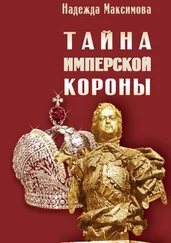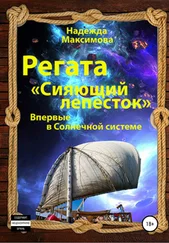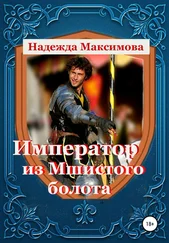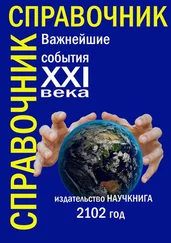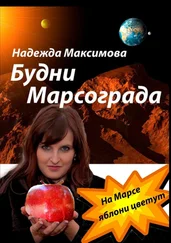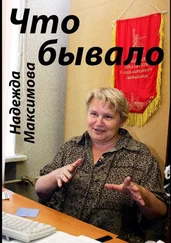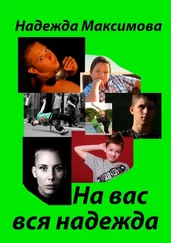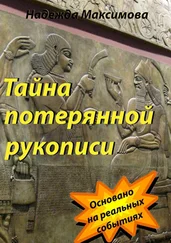Самопожертвование? Растворение в другом человеке, и жизнь ради другого, выраженная словами: «да я-то ладно, как-нибудь обойдусь, лишь бы детям было хорошо…»
Нет, далеко не всегда это вызывает столь ужасающие последствия. Но достаточно ли уважают дети тех родителей, которые осознанно приносят свою жизнь в жертву за них? Не слишком ли часто они отзываются о таких жертвователях пренебрежительно и видят в них лишь скудный источник материальных благ? Не слишком ли часто дети считают себя вправе кричать на таких родителей, требовать от них денег, покупок, модной и дорогой одежды?
В Библии сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И мы воспринимаем это указание, как важность и необходимость любить близких. А ведь это только половина смысла.
«Как самого себя»! Задумаемся. Если мы не ценим и не уважаем человека в себе то, что за любовь мы будем испытывать к окружающим?
В тюрьмах есть люди, которые по просьбам заключенных пишут письма на волю. Иногда пишут в стихах:
«Ни рукою зажать эту рану,
Ни платочком ее осушить.
Можно вставить в красивую раму,
И гостей по субботам смешить»…
Прости меня, мой ангел белоснежный…
В этой истории нет никаких упоминаний о следствии, суде… Даже уголовное дело не возбуждалось, потому как виновник (виновница) вскоре после событий скончался. Не выдержало сердце.
Хотя, если внимательно рассмотреть все обстоятельства случившегося, то возникает мысль, что основная вина ложится совсем на другого человека. Впрочем, судите сами.
Где-то я прочитала, что нет наказания за грех. Грех – сам по себе является наказанием.
Да-да, чаще всего оказывается, что в самые крупные неприятности мы втравливаем себя сами. В подтверждение этого парадоксального, на первый взгляд, высказывания могу привести историю, о которой я узнала в 1998 году, когда некая дама (она много лет прожила в Германии и имеет два высших образования – как психолог и как педагог) пришла искать правду.
Я тогда работала в одной из нижегородских газет, и мне поручили побеседовать с правдоискательницей. Прочие сотрудники уже изнемогли от общения с ней, так как дама обладала редкостным даром доставать до печенок.
Вот что она мне поведала.
Ее муж, назовем его условно Игорь Куницын, работал представителем Запорожского авиамоторного завода в Германии. Улаживал разнообразные конфликты. В том числе и возникающие после крушения самолетов.
Расследование одной из авиакатастроф, произошедшей году где-то в 1984-м или в 1985-м, показало, что двигатель отказал из-за того, что какой-то раздолбай из обслуживающего персонала забыл внутри отвертку.
Теперь, положа руку на сердце, постарайтесь ответить: кто это мог сделать? Наши или немцы?
Поначалу следствие установило то, с чем вы несомненно согласны. Но это означало, что советской стороне (тогда существовал еще Советский Союз) придется возмещать ущерб. В том числе страховые выплаты пострадавшим и семьям погибших. Огромные деньги!
И тут наш герой Куницын спас родную страну. Каким образом? Очень просто. Обследуя остатки двигателя, он вдруг извлек из него длинную зеленую нитку от рабочей перчатки. Каким чудом она уцелела там – глубокая тайна. Но доказательство оказалось решающим: наши работают без перчаток, немцы – в перчатках. Значит, именно немецкие рабочие последними проводили обслуживание двигателя, и именно они оставили внутри инструмент.
Представители «Люфтганзы» смолчали и оплатили все, что требовалось. Но семья нашего патриотичного представителя очень скоро оказалась на Родине. Конкретно – в одном из городов Нижегородской области.
Конечно, страна не забыла героя. Очередь на квартиру у него оказалась первая. Сидеть на узлах в частной квартире с тремя детьми на руках не пришлось. Елизавета Гавриловна Куницына – жена и мать, педагог и психолог – работу получила тут же и без малейших затруднений. Купили машину, да и из Германии, как вы понимаете, приехали не с пустыми руками… Словом, в насыщенном очередями и талонами городе жить оказалось можно.
Но не обошлось без проблем. Двое младших сыновей Куницыных родились в Германии и по-русски практически не говорили. А самому младшему к тому же не исполнилось еще и трех лет. Чувствуете? Здесь, как в фильме Хичкока, ничего страшного еще не происходит, но напряжение нарастает, и зритель заранее содрогается в предчувствии трагедии.
Трехлетний возраст – тот рубеж, после которого ребенка принимают в садик. До него – либо мама сидит дома, либо ясельки, либо нянька. Но мама получила работу и дома сидеть категорически не хочет, в ясельках категорически нет мест (это 1998 год, не забывайте). Няньке же необходимо платить. А семья, как я уже говорила, только что купила машину.
Читать дальше