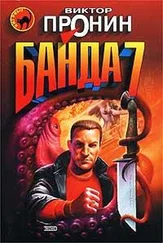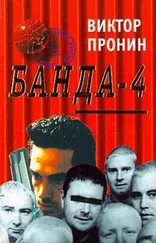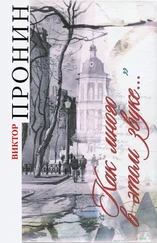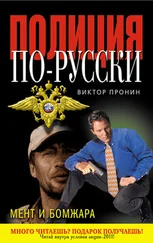Во как… Но ты не переживай, внутри там, в нашем доме, все чисто. Полы крашеные, обои зелененькие, в клеточку. Шкафы встроенные, так что и мебели особо не нужно. Но встроены неважно – я уж там в окна позаглядывал. Дверцы кривые, прибиты косо, переделывать придется.
– Переделаем, – хмуро ответил Женька. – Лишь бы на голову не капало.
– Это как получится. Воду пока не подключили и, слыхал я, будто еще месяца два не будут подключать, не подтянули трассу, да и слесарей у них не хватает. Но ты того, ордер-то получай, а то знаешь как бывает: придешь, а тебе говорят – кончились ордера. Во как! Хоть криком кричи, а их нету, кончились. И все тут! Смотри, сосед, не хлопай ушами-то, побереги уши, сгодятся!
* * *
Переезжали в новый дом постепенно, мало-помалу привыкли к нему, прощаясь со стенами, запахами деревянной избы. И ночевали через раз – то в низковатой гулкой квартире, то на старом месте. Каждый день что-то уносили с собой, оставляя безнадежный хлам, который ну никак не сгодится в новом жилье: топоры, лопаты, угольные ведра, утюги, самовары, которыми пользовались последний раз в войну. Назвать переселение веселым было нельзя – каждый угол, каждая доска в доме, дерево в саду, тропинка к калитке так обросли воспоминаниями, что попросту невозможно было проститься с садом легко, спокойно, без боли. В конце концов, оставляли не только старые стены – оставляли собственные годы.
Деев часами бесцельно бродил по дому, шаги его отдавались эхом в пустых комнатах. Он подходил к одному окну, к другому, смотрел в прозрачный сад, поднимал с пола какую-нибудь ненужную теперь вещь, повертев ее перед глазами, ронял на пол и шел дальше. За ним неслышно брел Кандибобер, покачивая хвостом и время от времени вздыхая, будто хотел этим выразить свое сочувствие, понимание…
Были минуты, когда дом казался Дееву чуть ли не живым существом, притихшим, чутко прислушивавшимся к каждому слову людей, к каждому их шагу, словно он пытался узнать, что же его ждет? «Да, брат, – бормотал Деев, – тут уж ничего не попишешь, ничего от тебя уж не зависит…» Он стал замечать, что дом вроде стал суше, теплее – может, показалось? Нет, крыша уже не протекала, осенние дожди не заливали подоконников – отчего бы это? И двери будто плотнее стали закрываться, тяга в печке улучшилась, теперь огонь за чугунной дверцей прямо гудел, вырываясь через черные запутанные ходы в низкое отсыревшее небо. Приложив руку к стене, Деев озадаченно наклонял голову – надо же, греет! И доски пола, которые еще совсем недавно прыгали и прогибались на одряхлевших балках, теперь лежали плотно, будто сцепившись друг с дружкой в отчаянной надежде остановить людей, задержать их если не навсегда, то хотя бы на зиму, еще на одну зиму, а уж весной-то, летом у людей не хватит сил уйти отсюда. Не смогут, не смогут, не смогут. Не уйдут.
Конечно, все эти перемены можно было при желании объяснить иначе, проще. Доски уплотнились, потому что отсырели после осенних дождей, тяга в печке улучшилась, потому что похолодало, исчезла давящая сырость, да и хороший уголь перестали жалеть, к чему он теперь, уголь-то?
Но Деев не торопился ударяться в эту занудливую трезвость – печаль старого дома была так созвучна его собственной. Он помнил, как строили этот дом, как он, еще мальчишкой, слизывал смолу с сочившихся бревен, как пахло этой смолой, свежими стружками, и все в доме было светлым, праздничным: стены, пол, потолок, подоконники. Потом все потускнело, будто повзрослело. Как-то Деев решил маленько подровнять выступающее бревно и совсем немного стесал, два раза топором ударил, но из стесанного места брызнул почти забытый им золотистый цвет. Внутри дерево оказалось таким же светлым и радостным, каким оно осталось в памяти, каким было пятьдесят лет назад, когда он бегал здесь по шуршащим стружкам и жевал необыкновенной вкусноты горькую сосновую смолу. От зачищенного места пахнуло сосной и детством. «А дом-то молодой, – подумал Деев. И еще подумал: – Как и все мы, если пообтесать маленько, шкуру нам подновить, физиономию разгладить… И сейчас бы в чужой сад за сиренью полез. А что, – хмыкнул Деев шало, – ей-богу, полез бы!»
Он подошел к умывальнику и уставился на себя в маленькое тусклое зеркальце. Но, кроме напряженно смотрящего на него немигающего стариковского глаза, ничего не увидел. Чуть отклонившись в сторону, он совсем огорчился: в зеркальце замелькали его небритый подбородок, красноватый нос, вскинутые белесые брови…
Читать дальше