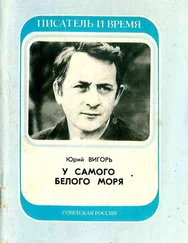Со знакомыми он был предупредительно вежлив, через него было удобно уславливаться о встрече с другими книжниками, которые рано или поздно заходили в этот магазин. Но то обстоятельство, что он простаивал здесь часами, проводил в магазине все свое свободное от работы время, вызывало к нему отношение несколько ироническое, чтобы не сказать больше; ведь он был иррационален, он был загадочен, он был не такой, как все, не укладывался в некий стереотип библиомана или книжного спекулянта. Хотя он был безвреден, и это уже причислялось к его достоинствам, если не заслугам; он никому не перебегал дорогу, не злословил, не сплетничал, одним словом, никому не чинил вреда, а что до его причуд, так пусть они кому-то покажутся смешными и даже нелепыми, но куда легче посмеяться над ними, чем понять их и объяснить.
Была ли у Коли Хирурга семья — никто не знал, никто никогда не бывал у него дома. Оставалось лишь догадываться об одиночестве этого человека, проводившего едва ли не половину жизни среди людской толпы в самой гуще водоворота у хлопающих дверей, на сквозняке под обстрелом недоуменных и любопытствующих взглядов. Но именно здесь, надо полагать, чувствовал себя в своей стихии этот поборник казацкой вольницы.
— Здравствуй, Коля, — поздоровался с ним Дудин, свершавший свой обычный дневной обход магазинов. — Попадается что-то стоящее? Может, подкинешь адресок какой-нибудь библиотеки на распродажу?
— Вяло несут, — кротко улыбнулся Коля. — Купил вот том Костомарова за двадцатку — «Последние годы Речи Посполитой», да и то потому, что нужно заменить в собственном экземпляре две страницы. Сегодня аванс во всех учреждениях, и народец, разумеется, временно при деньжатах. Терпеть не могу эти дни авансов и получек, тринадцатых зарплат и предпраздничных подачек-премиальных. Самые милые деньки — это послепраздничные и еще понедельники. Понедельник — мой вообще любимый день, день удач, переходная ступень от одного качества существования к другому. Кстати, по статистике, именно в понедельники в городе наименьшее количество транспортных происшествий, квартирных краж, грабежей, изнасилований и угонов машин, наименьшее поступление в больницы с тяжелыми травмами и инфарктами. Именно в понедельники пункты приема стеклотары дают самые высокие показатели, вытрезвители по понедельникам тоже, как правило, пустуют, и наступает короткая передышка… И какой это дурак выдумал, что понедельник — день тяжелый!
— Сие предубеждение проистекает из эпохи застоя, тогда у людишек была иная психология и они не желали расставаться с иллюзиями призрачного двухдневного счастья, переходя к будням соцдействительности, — ухмыльнулся Дудин, кивнул знакомой продавщице и проследовал в товароведку к Иннокентию Михайловичу.
В предбаннике, как выражался метр, было пустовато — всего трое сдающих какую-то чепуховину. На приемке управлялась одна Элеонора Михайловна, а Иннокентий Михайлович вел светскую беседу с субъектом холеного вида, вызывающе модно одетым, раздражавшим глаз блеском замысловатых брелоков, перстней и цепочек, не приличествующих деловому человеку, не говоря уж о филобиблах и филобоблах, а тем более простым советским книгочеям.
«Ферт какой-то», — сразу окрестил его Дудин. Субъект небрежно похлопывал себя лайковыми перчатками по тугой, жирной ляжке, затянутой в «варенку», и едва покосился с небрежной рассеянностью на вошедшего Дудина, облаченного в заношенный отечественный ширпотреб.
— Непростительная ошибка, чтобы не сказать преступление наших высоколобых чиновников и отцов города, что распорядились снести Сухареву башню, — говорил Иннокентий Михайлович, неторопливо листая какой-то фолиант. — Ведь будь в них истинно российский дух, культура и знание истории отечества…
— Пожалуй, вы слишком много от них хотите, они «вершат» события, «преют» на ответственных, как будто есть еще и безответственные, совещаниях, а читать им, бедолагам, и вовсе некогда, — заметил совершенно безобидным, индифферентным тоном субъект лощеного вида. — И пусть лучше мы с вами, дорогой Иннокентий Михайлович, переживем Сухареву башню, чем она нас!
— Так-то оно так, да не совсем, — вздохнул метр, достал из стола лупу и еще раз внимательно поглядел на старинную гравюру, а потом снял с полки первый том «Русских достопамятностей» издания А. Мартынова за 1877 год и открыл первую главу, где слева была литография Сухаревой башни. — Нет, нет, старожилу Москвы никогда, до самой смерти с этим преступлением не смириться! Все, что было вокруг, можно бы снести, но эдакую красавицу следовало оставить. С ней так много связано в русской истории! Бойницы этой башни смотрели на нас глазами древней столицы. Да вот послушайте-ка: «Сей памятник царствования Иоанна V и Петра, знаменитый по своему началу, занимает одну из высот Москвы на прежней ее границе, которую составлял Земляной вал в северо-восточной ее части… Некогда по Земляному валу тянулись стрелецкие слободы, где жили бессменные ратники, разделявшиеся на приказы или полки, как городская охранная стража, которая вне службы занималась ремеслами и торговлею. Таких приказов было двадцать, от 800 до 1000 человек. Около Сретенских ворот в конце XVII века имел свое пребывание Сухарев полк, названный по имени полковника его Лаврентия Панкратьевича Сухарева, от сего и само урочище это слыло — Сухарев, а впоследствии воздвигнутая там башня прослыла Сухаревою в память этого полка, верного престолу государя, когда крамольные приказы стрельцов в 1682 году восстали для истребления царского семейства: тогда Сухарев полк сопровождал Петра с матерью и братом в село Преображенское и Троице-Сергиев монастырь. Верной дружине пожалованы государем знамена, хранящиеся в Оружейной палате… Тогда же предпринято сооружение каменных Сретенских ворот с шатром, которые видом своим походят на прежний Адмиральский корабль с мачтою, а на втором их ярусе галереи соответствуют шканцам карабельным: восточная сторона — носу, а западная корме…» Увы, Сретенские ворота отцы города тоже не пощадили… — захлопнул книгу Иннокентий Михайлович, поставил на полку и снова принялся рассматривать гравюры в лежащем на столе фолианте.
Читать дальше