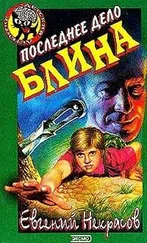Эдмунд Бентли
Последнее дело Трента
Когда неукротимый мозг Сигсби Мандерсона был сокрушен выстрелом, произведенным неизвестной рукой, мир не потерял ничего, что стоило хоть единой слезы; миру напомнили о тщетности богатства, какое покойник накопил — не оставив после себя ни друга, который бы оплакивал его смерть, ни поступка, который бы заставил вспоминать его добром. Но когда пришла весть о его кончине, людям, живущим в огромном водовороте бизнеса, показалось, что земля дрогнула.
В мрачной истории коммерческих операций не было личности, которая отложила бы столь сильный отпечаток на умы делового мира. Личность эта стояла совершенно особо. Финансовые гиганты, рвущие подать с миллионов тружеников, существовали и раньше; но в случае с Мандерсоном была та единственность, что делала его в глазах сограждан символом практичности, неоспоримым вожаком устойчивости, твердо шагавшим сквозь искусственно созданные кризисы, финансовые демарши конкурентов с Уолл-стрит.
Состояние, оставленное его дедом, который был одним из дельцов этого города, только меньшего калибра (соответственно своему времени), пришло к нему через отца, который всю свою долгую жизнь спокойно давал деньги взаймы и никогда не получал при этом недобросовестного барыша. Мандерсон-младший, не знавший, что значит не иметь на руках крупной суммы, должен был бы тянуться к нравам новейшей американской плутократии, к традициям и обычаям большого богатства. Но этого не случилось. Его воспитание и образование укоренили в нем инстинкт спокойного благополучия, ощущение могущества, которое не кричит о себе тысячью языков. Тем не менее в начале своей деловой карьеры он был не только гениальным игроком, но и врагом каждого, кто в погоне за прибылью успевал больше, чем он. Затем он познал, что и война — очень выгодное дело. Так молодой Мандерсон открывал для себя многогранность и сложность борьбы на нью-йоркской бирже.
Ко времени смерти отца, когда Мандерсону было тридцать лет, казалось, какое-то новое сияние золота, которому он служил, озарило его. С внезапной гибкостью, свойственной людям его нации, он обратился к банковскому делу отца, не особенно прислушиваясь при этом к звукам биржевых битв: он уже держал в руках всю деятельность большой фирмы, чей безупречный консерватизм, устойчивость и финансовый вес возвышали ее над бурями рынка.
Он стал совершенно другим человеком. Каким образом произошло это изменение, никто не мог бы сказать с уверенностью, но были, говорят, какие-то предсмертные слова, сказанные его отцом, единственным человеком, которого он уважал и, может быть, любил.
Вскоре его имя стало ходячим в деловом мире. Оно стало символом всего, что было расхвалено и прочно в Соединенных Штатах. Он планировал всевозможные комбинации капиталовложений, стягивал, соединял и централизовал предприятия индустрии континента, безошибочно финансировал государственные и частные фирмы, разоряя при этом множество мелких хозяйств.
Десятки тысяч бедняков проклинали его имя, но финансисты и дельцы отвращения к нему не питали. Он протягивал им руку, чтобы защитить силу богатства в каждом из уголков страны. Энергичный, хладнокровный, безошибочный, он служил национальному возвышению, и благодарные воротилы назвали его Колоссом.
Тем не менее было на исходе жизни Мандерсона одно обстоятельство, скрытое от всех, кроме, пожалуй, его секретарей и нескольких свидетелей его бурного прошлого. Только маленький круг людей знал, что у Мандерсона, этого столпа здравого бизнеса и рыночной устойчивости, были часы тоски по тем полным напряжения временам, когда Стрит дрожала при его имени: время от времени пират с ножом в зубах в нем все же проглядывал. Тогда, бессильный и пресыщенный, Мандерсон позволял себе подсказать кому-нибудь, как могла бы состояться миллионная сделка.
— «Сдается мне, — скажет он, бывало, — что Стрит стала удивительно скучным местом с тех пор, как я перестал там бывать». Постепенно о милой слабости Колосса узнали в деловом мире, и деловой мир был счастлив своим знанием.
При известии о его смерти паника обрушилась на рынки, как ураган. Цены колебались и рушились, словно башни во время землетрясения. По Соединенным Штатам прошла эпидемия самоубийств. Она перенеслась и на Европу. В Париже отравился известный банкир. Во Франкфурте один из дельцов бросился с собора. Люди закалывались, стрелялись, вешались — и все потому, что в уединенном уголке Англии расстался с жизнью человек, сердце которого было отдано алчности.
Читать дальше

![Лариса Соболева - Последнее дело молодого киллера [= Лицензия для Робин Гуда]](/books/30801/larisa-soboleva-poslednee-delo-molodogo-killera-thumb.webp)