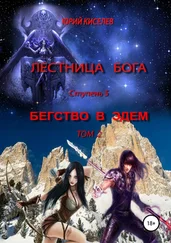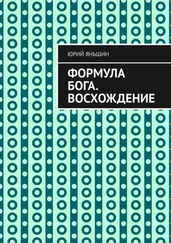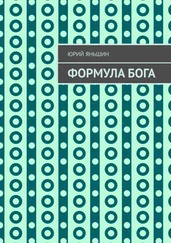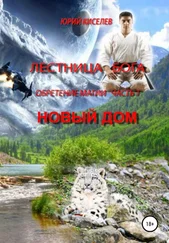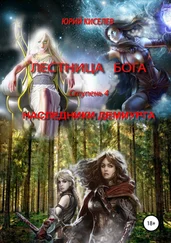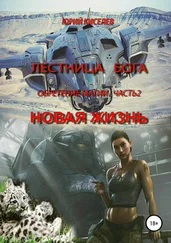У нас дома хранится фотография голого по пояс восемнадцатилетнего армянина: карие с ясным взглядом глаза, аккуратно зачесанные волосы, рельефные мускулы рук и торса… Еще работая грузчиком на комбинате, отец на спор взвалил себе на плечи стошестидесятикилограммовый рулон бумаги и перенес его на другой штабель. За пятьсот граммов хлеба, как оговаривалось условиями пари.
Но в 1950 году отец был под комендатурой и не мог ответить лудильщику ударом, от которого летали и не такие бойцы. Они с матерью собрали все свои вещи — «две фуфайки» — и ушли жить в барак, до сих пор известный в поселке Лагерь под именем «девяносто шестой». И прожили в нем пять лет. А квартиру с удобствами получили только через двадцать.
Этот поселок называется так потому, что раньше в бараках действительно находился лагерь для заключенных. Пушкина, Маяковского, Островского, Толстого — так называются улицы поселка. Литературный городок! Переделкино, можно сказать. Здесь людей переделывали в лудильщиков. Только именем Максима Горького называлось пять улиц — первая, вторая, третья… Как же, основатель социалистического реализма, посетил острова Соловецких лагерей особого назначения и одобрил тамошнее переделывание людей. А Вишерский лагерь был четвертым отделением этого СЛОНа, хоть и находился на материке, далеко от моря.
Именами великих назывались убогие шеренги черных бараков и щитовых финских домиков, промерзавшие в зимние месяцы насквозь, настолько, что углы в комнатах покрывались изморозью. Я до сих пор не пойму, почему дома эти назывались финскими — сомневаюсь, чтобы наши благополучные северные соседи жили в таких условиях. И видел бы Пушкин улицу своего имени! Стал бы он писать «Бахчисарайский фонтан», если бы увидел, куда занесло крымских татар?..
В центре поселка находится заброшенный карьер, заросший травой, затопленный водой. Рассказывали, когда его рыли, из земли стали появляться черепа и кости. Экскаваторный ковш вышел на траншею, куда в тридцатых годах сбрасывали расстрелянных заключенных. Может, там были и останки моего деда Павла — в нескольких метрах от нашего финского домика. Так тесен мир, что с покойниками не разъехаться… И нельзя не задуматься, глядя в пустые и черные глазницы прошлого.
На Вишере, как в столице, собралась вся страна. Рядом стоял магазин «десятый», куда мы пацанами бегали смотреть на тунеядцев, высланных из Ленинграда. Они были молодыми, в интересных жилетах с блестящими пуговицами. Сегодня я думаю: ведь, наверное, кое-кто из них перенес в детстве блокаду? Так, может быть, в это же время разглядывали и Бродского? Посевернее нас. Мне достались поэты парфюмерии и карамели: они пили одеколон из флакона и откусывали конфетку, не снимая фантика. И пили Белое море водки. Наш сосед из дома напротив замерз на крыльце; из дома, что стоял справа, мужика вынесли в белой простыне, сильно подкрашенной кровью: жена отрубила ему голову топором. А Володя, восемнадцатилетний немец, проиграл себя в карты вербованным…
Хорошие люди, родившиеся в мертвой стране. Не жлобы, не жулики. Тысячи ссыльных, вербованных и освобожденных уходили как песок с водой, оставляя в лотке крупинки золота. Лесорубы, сплавщики и шофера — с широкой костью, с веселой улыбкой… Вишера — храм человеческий, мое болото, над которым летает кулик и поднимаются желтые ягоды спелой морошки. На Вишере пахнет водой, молевым сплавом и сосновой корой, пахнет черничным вареньем, от которого темнеют зубы у пацанов. Простите мне эту слезу…
В год смерти деда Давида и Сталина, пятьдесят третий, Паша Кичигина поехала в Сибирь, чтобы навестить Лидию Никаноровну и Мишу. В Тюмени, переночевав на вокзале, она села на пароход и с долгими пересадками, живя на пристанях по два-три дня, поплыла в страну хантов. Прошло более полумесяца, и она осталась на берегу с двумя мужчинами-попутчиками, сказавшими ей, что тоже добираются до родных. «И как не побоялась — молодая была, двадцать три года…» На лодке перебрались на другой берег, где заночевали в гостеприимном доме местного учителя, накормившего путников ухой. До сих пор помнит… Чем дальше в лес, тем больше хороших людей попадалось. И попутчики оказались порядочными. Тридцать километров прошагали они по тайге вместе, на руках перенесли ее вброд через реку.
— Ой-е-е-ей! Как же ты добралась сюда? — встретила ее мать.
К тому времени большинство ссыльных уже жили в бараках без комнат, от торца до торца сплошь заставленных кроватями. В трюмах, вагонзаках и бараках советская власть продуманно лишала людей уединенности и личной жизни, чтобы избавить их от чувства собственного достоинства. «Ваше место у параши», — говорила она им.
Читать дальше
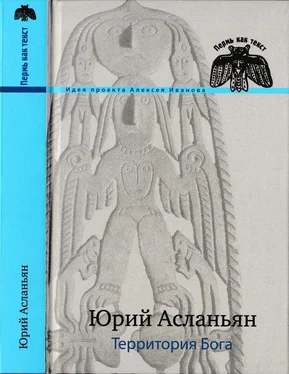


![Юрий Асланьян - Дети победителей [Роман-расследование]](/books/407225/yurij-aslanyan-deti-pobeditelej-roman-thumb.webp)