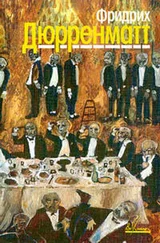Обследование оружия подтвердило это предположение. Причина убийства тоже ясна: Гастман боялся, что Шмид его разоблачит. Шмид должен был бы довериться нам. Но он был молод и честолюбив.
В покойницкую вошел Берлах. Когда Лутц увидел старика, он стал меланхоличным и снова спрятал руки в карманы.
– Что ж, комиссар, – сказал он, переступая с ноги на ногу, – хорошо, что мы встретились здесь. Вы вовремя вернулись из своего отпуска, да и я не опоздал сюда со своим национальным советником. Покойники поданы. Мы много спорили, Берлах, я стоял за сверххитрую полицию со всякими штучками, охотно снабдил бы ее даже атомной бомбой, а вы, комиссар, были скорее за более человечную, за своего рода отряд сельских жандармов, сформированный из простодушных дедушек. Покончим с этим спором. Мы оба были неправы, Чанц доказал это нам простым револьвером, совсем не научным способом. Я не желаю знать, как он это сделал. Ну хорошо, пусть это была самооборона, мы должны ему верить, и мы можем ему верить. Результат стоит того, как говорится, убитые тысячу раз заслуживают смерти, а если бы все шло по-научному, нам сейчас пришлось бы шпионить за чужими дипломатами. Чанца мне придется повысить; а мы оказались ослами, мы оба. Дело Шмида закончено.
Лутц опустил голову, смущенный загадочным молчанием старика, ушел в себя, снова вдруг превратился в корректного, добросовестного чиновника, откашлялся и, заметив все еще смущенного фон Швенди, покраснел, потом он медленно вышел, сопровождаемый полковником, скрылся в темноте какого-то коридора, оставив Берлаха одного. Трупы лежали на носилках, покрытые черными покрывалами. С голых серых стен шелушилась штукатурка. Берлах подошел к средним носилкам и открыл лицо мертвеца. Это был Гастман. Берлах стоял, слегка склонившись, все еще держа в левой руке черную ткань. Молча смотрел он на восковое лицо покойника, на еще сохранившие усмешку губы; глазные впадины стали теперь еще глубже, но ничего страшного не таилось больше в этих пропастях. Так они встретились в последний раз, охотник и его дичь, лежавшая приконченной у его ног. Берлах предчувствовал, что жизнь обоих достигла конца, и его взгляд еще раз проник сквозь годы, его мысль еще раз проделала путь по таинственным ходам лабиринта, представлявшего собой жизнь их обоих. Теперь между ними не осталось ничего, кроме беспредельности смерти, судьи, приговором которого было молчание. Берлах все еще стоял, склонившись, и бледный свет камеры падал на его лицо и руки, играл и на покойнике, одинаковый для обоих, созданный для обоих, примиряя обоих. Молчание смерти опустилось на него, проникло внутрь, но не дало ему успокоения, как тому, другому. Мертвые всегда правы. Берлах медленно покрыл лицо Гастмана. Последний раз он видел его: отныне его враг принадлежал могиле. Одна только мысль владела им долгие годы: уничтожить того, кто теперь лежал у его ног в голом сером помещении, покрытый осыпающейся штукатуркой, словно легким, редким снегом; и теперь старику не оставалось ничего другого, кроме как устало накрыть труп, смиренно просить о забвении, единственной милости, могущей смягчить сердце, изглоданное неистовым огнем.
В тот же день, ровно в восемь, Чанц вошел в дом старика в Альтенберге, срочно вызванный им к этому часу. К его удивлению, дверь отворила молодая служанка в белом переднике, а когда он вошел в коридор, из кухни доносился шум кипящей воды, приготовления пищи, звон посуды. Служанка сняла с него пальто. Левая его рука была на перевязи; тем не менее он приехал в машине.
Девушка открыла перед ним дверь в столовую, и Чанц замер на пороге: стол был торжественно накрыт на две персоны. В подсвечнике горели свечи, в конце стола сидел Берлах в кресле, освещенный неярким красным светом, являя собой картину непоколебимого спокойствия.
– Садись, Чанц, – сказал старик своему гостю и указал на второе кресло, придвинутое к столу. Чанц сел, оглушенный.
– Я не знал, что приглашен на ужин, – произнес он наконец.
– Мы должны отпраздновать твою победу, – ответил спокойно старик и немного отодвинул подсвечник в сторону, так что они могли без помех смотреть друг другу в лицо. Потом он хлопнул в ладоши. Дверь отворилась, и статная полная женщина внесла поднос, до краев уставленный сардинами, раками, салатами, огурцами, помидорами, горошком, майонезом и яйцами, холодной закуской, курятиной и лососиной. Старик положил себе всего. Чанц, который видел, какие огромные порции накладывал себе этот человек с больным желудком, от изумления положил себе лишь немного картофельного салата.
Читать дальше