Орлов помог довести Трухина до двери.
— До свидания, Федор Иванович.
— Подожди, Алексей Иванович, я должен представиться… честь имею. Трухин Федор… Гимназист… Пардон, фрау… Совет да любовь. — И запел: — «Потом она сказала мило…»
— Я сейчас, Кира, сейчас… Только провожу. Наконец-то захлопнулась дверь за гостями. «Это не номер, а камера для наблюдения».
— Алеша, как ты мог!
— Я тебе потом все объясню… Ты должна понять. «Господи, как ей рассказать?»
— Алеша, как ты мог?
— Подожди, я оденусь!..
Орлов схватил немецкий мундир. Кира увидела мундир, стала как мел.
— Как ты мог? «Как ей объяснить? Как?»
Резко распахнулась дверь. Вошла Козихина. Игриво улыбнулась, стрельнула глазами.
— Просили добавить, ваше благородие…
— Кира, подожди!
Кира крикнула от двери:
— Живи в этой мерзости!.. Живи… Живи…
Орлов бросился за ней, кинул на ходу Козихиной:
— Принесла вас нелегкая!
Старик портье стоял к лифту спиной, выписывал счета. Он не видел, как чтото большое пролетело за сетчатой шахтой. Он только услышал странный мягкий стук.
Потом донесся крик, страшный, леденящий душу крик:
— Варя! Варенька!..
По лестнице бежала хорошенькая официантка из острабочих, в кружевном переднике, с наколкой. Ее обогнал офицер.
Портье заковылял на костылях, заглянул за лифт — офицер стоял на коленях перед мертвым искалеченным телом.
Официантка сидела на ступеньках, плакала. Погас свет. Начался воздушный налет. Кто-то кричал у подъезда:
— Ахтунг! Ахтунг!..
Из воспоминаний Андрея Михайловича Мартынова
Самое деятельное участие в похоронах Киры принял Жиленков. Он помог раздобыть хороший гроб и цветов, а это в Берлине летом 1944 года сделать было нелегко.
Перед выносом тела из морга приехали Власов и Трухин.
— Я понимаю твое горе, Алексей Иванович, — сказал Власов. — Но ты не падай духом. Для тебя самое главное сейчас работа, она поможет тебе преодолеть несчастье.
Он говорил долго, ему, видно, нравилось изображать себя заботливым, внимательным «отцом-командиром», тем более что около крутились корреспонденты из «Добровольца».
Трухин, трезвый, опрятно одетый, равнодушный, откровенно скучал — ему не терпелось поскорее дожить до обеда, когда можно будет опрокинуть в себя умиротворяющую душу жидкость.
Он не выдержал, перебил Власова, запутавшегося в своей длинной речи:
— Андрей Андреевич, вы не забыли, что у вас совещание?
— Помню, помню, — спохватился Власов. — Не отчаивайтесь, голубчик, — явно подражая кому-то, произнес он на прощанье и обратился ко мне: — Павел Михайлович, проследите, чтобы все сделали в наилучшем виде.
Трухин, подав мне руку, с усмешкой сказал:
— Вы уж постарайтесь, голубчик, чтобы все в наилучшем.
Мы ехали на грузовике — Астафьев со своей подружкой, похожей на мальчика, — она всю дорогу тихонько плакала, — два солдата из комендантского взвода и незнакомая женщина в черном платье и в черном платке, повязанном по-монашески. Алексей Иванович сидел, положив руку на гроб. Глаза у него были сухие, за всю дорогу он не произнес ни одного слова.
Киру похоронили на кладбище неподалеку от Добендорфа, на участке, отведенном для русских офицеров.
Алексей Иванович помог снять гроб с машины, нес его вместе со всеми до узкой, экономно вырытой могилы — все молча, без слез. Подружка Астафьева, — я узнал, что ее зовут Клава Козихина, — тоскливо сказала поручику:
— Господи, что же он молчит!
Когда гроб опустили и солдаты вооружились лопатами, Козихина истерично крикнула:
— Подождите!
Она подошла к краю могилы, плача, кинула горсть сухой, пыльной земли на гроб и сердито приказала Орлову:
— Бросьте! Нельзя так…
Орлов послушно исполнил ее требование и отошел в сторону.
Солдаты быстро закидали могилу, похлопали лопатами по маленькому холмику, покурили и пошли к машине. Астафьев с трудом увел Козихину — плакать она уже не могла, ее одолела икота.
А Орлов все сидел у могилы. Я подошел к нему:
— Пойдем, Алексей Иванович… Надо ехать… Он решительно поднялся:
— Надо так надо.
Подошел к могиле Киры, постоял и пошел впереди меня. У ворот он повернулся ко мне:
— Сейчас Сережа, наверное, дома. И ничего он не знает…
Через два дня застрелился поручик Астафьев. Тогда не могли понять, что заставило его покончить с собой. Трухин угрюмо изрек:
— Разберемся на страшном суде.
А я пожалел, что так и не поговорил с Астафьевым всерьез.
Читать дальше
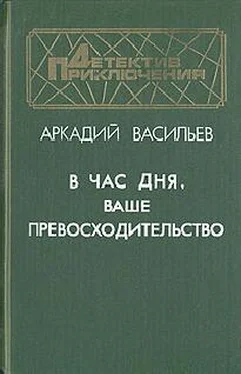

![Аркадий Васильев - Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет [Авторский сборник]](/books/25082/arkadij-vasilev-ponedelnik-thumb.webp)

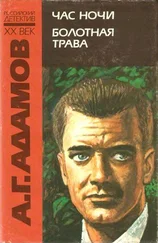
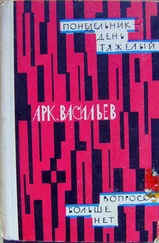

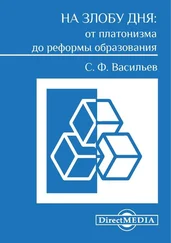

![Андрей Васильев - Час полнолуния [litres, СИ]](/books/417221/andrej-vasilev-chas-polnoluniya-litres-si-thumb.webp)

