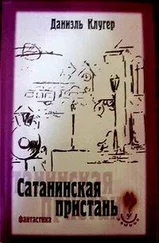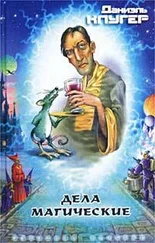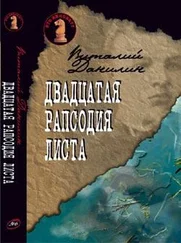Но Иван Иванович вдруг улыбнулся — так, что широкое лицо его расплылось еще шире, — пригладил жидкую прядь волос и сказал жирным, как масленичный блин, голосом:
— Вы, Елена Николаевна, не серчайте на старого юса. Что поделать, и на старуху бывает проруха. Я ведь зачем пришел? Затем, чтобы прощения у вас попросить. Так вы уж не держите на меня зла. Обмишулился я. Крепко обмишулился.
Я был поражен поступком судебного следователь. Признать свои ошибки, попросить прощения, да еще весь город для того пересечь — это, господа мои хорошие, истинный подвиг смирения!
Однако же когда, после отбытия судебного следователя, сказал я о том Владимиру, мой молодой друг — и истинный герой сей истории — пренебрежительно фыркнул:
— Что же вы, Николай Афанасьевич, никак от своей наивности не избавитесь? Скажете тоже — подвиг… Да просто побоялся господин Марченко, что вы можете и с жалобою кое-куда обратиться. И упредил вашу жалобу: ведь у вас, Николай Афанасьевич, все намерения, можно сказать, на лице написаны. Кто пожелает — враз прочтет, я вам о том давно говорю. Вот и Марченко прочел, что душа у вас добрая и деликатная и что, приняв извинения, вы не станете никуда жаловаться. Рука не повернется писать ябеду. А вы — подвиг, подвиг… Да разве способны нынешние чиновники на подвиги, если только речь не идет об их месте? А-а… — Он махнул рукою, а я почувствовал себя пристыженным. Услыхал я в словах Владимира правду — ту правду, которая была мне неприятна, но против которой я не мог ничего возразить.
Во время визита судебного следователя я стоял за спиною Аленушки, которая сидела на стуле очень прямая и внешне спокойная. Испытывал я опасения, что господин Марченко помянет клеветанья покойного Пересветова — о шляпной булавке, о ссоре семейной, предшествовавшей гибели Юрия Валуцкого. Но его высокоблагородие проявил высокую деликатность, неожиданную для его должности и внешности. Он лишь коротко выразил соболезнование по поводу гибели Евгения Александровича, после чего приложился к ручке дочери моей и покинул нас.
Я облегченно перевел дух. Ибо сам я ни о каких откровениях покойного зятя дочери не рассказывал. Да и зачем? Мало того, что дал я — и Владимир тоже — слово ему перед самой его смертью. Слово я, разумеется, привык держать. Но даже если бы я и не дал слова, если б не потребовал Пересветов от нас этого, я и тогда не стал бы ни о чем рассказывать Аленушке — и Владимиру бы строго-настрого заказал. Ей и так достало испытаний. Каково было бы взвалить на хрупкие Аленушкины плечи еще и груз ужасной войны ее мужа? Каково было бы ей дальше жить с мыслью о том, что более года состояла она в браке с самым, может быть, ужасным чудовищем на свете? С чудовищем, чья душа оказалась столь ущербна и черна? Так пусть уж лучше считает, что Евгений Александрович стал невинной жертвою жестокого убийцы.
Визит господина Марченко произошел через пять дней после похорон Пересветова. Самоубийцу в церкви не отпевали, да и похоронили за кладбищенскою оградой, в неосвященной земле. Не хотел я пускать Аленушку на кладбище, но она настояла на своем. Держалась моя дочь, вопреки отцовским опасениям, вполне мужественно. Плакала ли, нет ли — не знаю, ибо лицо свое она скрыла черною вуалькой. Но когда я подошел к ней и прошептал что-то ободряющее, придерживая за локоть, — мол, держись, доченька, — она едва слышным голосом ответила вдруг нечто совершенно для меня неожиданное:
— Вы не волнуйтесь, папенька, я теперь, против прежнего, очень даже покойна. Теперь у меня все хорошо будет. А Евгений — что же, пусть душа его почиет с миром.
С тем и ушла от засыпанной могилы.
Именно с того дня и пошла Аленушка на поправку. Словно хворь ее неопределенная, вызванная всеми страхами и ужасами, перевалила через вершину — и вниз пошла. И как раз после визита господина Марченко я впервые увидел на щеках моей дочери слабый румянец. Тогда вздохнул я с облегчением и начал готовиться к отъезду.
Аленушка наотрез отказалась переступать порог своей прежней квартиры — и крепко уветила меня не брать ни одной ниточки из тамошних вещей. По указанию Аленушки все платья ее Настя Егорова отдала в общество попечения бедных.
— А прочее пусть домовладельцы выбросят, — заявила она.
И я с нею спорить не стал. Еще два дня прошли у нас в предотъездных хлопотах. Последнюю неделю я виделся с Владимиром только вечерами, потому как молодой Ульянов вынужден был спешно наверстывать все то, что запустил, занимаясь нашими делами, — и прежде всего подготовку к экзаменам. Хотя, возможно, была и другая причина тому, что Владимир старался как можно реже встречаться с моей дочерью. А при тех встречах, что все же происходили, он казался удивительным образом виноватым. Словно бы корил себя за то, что, как и я, мало интересовался жизнью Аленушки в Самаре.
Читать дальше