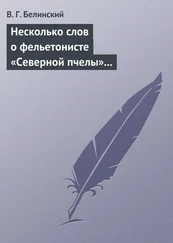Затем его охватило замешательство, знаменовавшее моменты, когда его ум не мог справиться со своими собственными размышлениями, — но ему удалось выразиться сравнительно связно, мрачно сказав:
— Кажется, или, точнее, бывает, что иногда — иногда — происходят вещи, которых мы не понимаем, моя милая, и не знающая справедливости действительность такова, что эти события, для нас столь нелогичные, не имеющие никакой причины, которую можно было бы в них найти, суть именно то, чем они являются, и, к сожалению, больше ничего, и я думаю — я, право, думаю, что это знание — самое трудное для каждого из нас.
Миссис Монро некоторое время смотрела на него, как будто не собираясь отвечать; потом с горькой улыбкой сказала:
— Да, самое. — В наступившей тишине она опять повернулась к столу — к ручкам, бумаге, книгам, пузырьку — и выровняла все, чего касалась. Закончив, она обратилась к нему: — Простите, но мне нужно поспать, я очень устала за эти дни.
— Вы не переночуете сегодня в доме? — спросил Холмс, беспокоясь за нее, что-то подсказывало ему, что ей не следует быть одной. — Еду готовит Андерсонова девочка, хотя вы найдете ее стряпню оставляющей желать много лучшего. И в гостевой комнате должно быть чистое белье.
— Мне тут удобно, спасибо, — сказала она.
Холмс хотел было настаивать на том, чтобы она пошла с ним, но миссис Монро уже смотрела мимо него в темный коридор. Ее сгорбившаяся, выражавшая решимость спина, лицо, широкие зрачки в тонких зеленых ободках радужки отторгали его присутствие, отталкивали его. Она вошла в комнату Роджера без слов, и Холмс предполагал, что она выйдет из нее, тоже не издав ни звука. Но, когда она направилась к двери, он перехватил ее, поймав за руку, и удержал на месте.
— Дитя мое…
Она не высвобождалась, а он не мешал ей идти, он просто держал ее за руку, а она держала за руку его, они больше ничего не говорили и не смотрели друг на друга: ее ладонь в его ладони, все чувства — в легком сжатии пальцев, — пока она, кивнув головой, не отняла руку и не вышла в дверь, вскоре растаяв в коридоре, предоставив ему одному бороздить темноту.
Чуть погодя он встал и, не оборачиваясь, покинул комнату Роджера. В коридоре трости постукивали впереди него, словно у слепого (позади был свет Роджеровой спальни, впереди сумрак дома, и где-то — миссис Монро). У выхода он нашарил ручку, сдавил ее и не без некоторого труда открыл дверь. Но наружный свет ослепил его, и он не мог двинуться дальше; и, когда он стоял, жмурясь и вдыхая сырой от дождя воздух, святилище пчельника — покой пасеки, безмятежность, которой он проникался, сидя меж тех четырех камней, — поманило его. Он коротко вздохнул перед тем, как пойти, и все еще жмурил глаза, ступая на тропинку. По дороге он остановился, поискал в карманах сигару, но обнаружил только коробок спичек. Ничего страшного, подумал он, возобновляя путь, — его ботинки хлюпали в грязи, высокая трава вдоль тропинки влажно сияла. Когда он подходил к пасеке, мимо него порхнула алая бабочка. За ней, будто догоняя, — другая, и третья. После того как пролетела последняя, он окинул пасеку взглядом, присмотрелся к рядам ульев и к траве, укрывавшей четыре камня (все вымокшее, отсыревшее, прибитое дождем).
И он направился не в ту сторону, а прямо — туда, где его владения встречались с небом и белые утесы обрывались, отвесно падая вниз, под дом, под цветочные сады и гостевой домик, — в их пластах, прорезанных узенькой тропкой, вившейся к берегу, был виден ход времени, они говорили о неравномерном движении истории, постепенно меняясь и все равно оставаясь в каком-то смысле неизменными; в них виднелись окаменелости и усообразные корни.
Спускаясь по тропинке (ноги несли его вперед, следы тростей усеивали мокрый меловой склон), он слушал, как волны бьются в берег — этот дальний рокот, шипение и потом короткое затишье, похожие на первоначальный язык творения, до того как зародилась человеческая жизнь. Дневной бриз и в лад с ним — движение океана; он видел, как в милях от берега солнце отражается в воде и рябится волнами. С каждой минутой океан разгорался ярче, солнце словно поднималось из его глубин, и волны клубились в ширящемся оранжево-красном цвете.
Но все это представилось ему таким отстраненным, таким неопределенным и чуждым. Чем больше он глядел на океан и небо, тем более далекими от человечества они казались ему; вот почему, подумал он, человечество в таком разладе с самим собой — эта разобщенность есть неизбежное следствие людских попыток забежать вперед своей природы, и от этой мысли на него напало безграничное уныние, которое он едва мог вместить. Но волны бились, утесы возвышались, ветер разносил запах соленой воды, и летнее тепло смягчалось прошедшей грозой. Он спускался ниже по тропинке, и в нем усиливалось желание быть частью исконного, естественного порядка, жажда избегнуть людской суеты и пустого шума, возвещавшего лишь о собственной значимости; утвердившись в нем, эта потребность перевесила все, чем он дорожил и что держал за правду (его писания и теории, его наблюдения над огромным множеством вещей). Небо уже трепетало с уходом солнца; луна тоже возникла на небе, отражая солнечный свет, и повисла расплывчатым, прозрачным полукругом на иссиня-черном своде. Он коротко посмотрел на солнце и луну — на эту горячую, ослепительную звезду и холодный, безжизненный серп — и почувствовал удовлетворение оттого, что оба тела перемещались по своим орбитам и вместе с тем были неразделимы. Ему сами собою вспомнились слова, хотя он и забыл, откуда они: «И солнцу не дано настичь луну, и ночь не сможет день опередить». [19] Коран, 36:40. Перевод В. Пороховой.
Наконец, как случалось снова и снова, когда он ходил этой изгибистой дорогой, настали сумерки.
Читать дальше