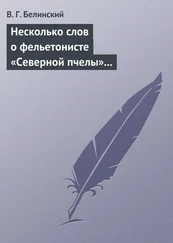Только когда господин Умэдзаки покинул его, тихо пройдя через комнату, отодвинув и задвинув за собою перегородку, разделявшую отведенные им помещения, Холмс пришел в себя. Повернувшись на бок, он слушал унылый шум ветра. Он коснулся татами у кровати, тронул пальцами подстилку. После этого он закрыл глаза и задумался над тем, что спросил господин Умэдзаки, над словами, смысл которых наконец дошел до него: «Скажите мне. В чем дело? Мне вы можете сказать». Холмс знал: несмотря на все, что этот человек говорил об удовольствии, которое он получает от их поездки, господин Умэдзаки был на самом деле полон решимости разузнать что-нибудь о своем пропавшем отце, даже если для этого ему пришлось бы бдеть у его постели (зачем еще господину Умэдзаки приходить в его комнату, что другое могло его туда привести?). Холмс и сам допрашивал спящих — воров, курильщиков опиума, людей, подозреваемых в убийстве, — в схожей манере (нашептывая что-то на ухо, извлекая из их сбивчивых речей, из дремотных признаний сведения, которые впоследствии поражали виновных своей точностью). Посему сам способ не вызвал у него нареканий, но ему было желательно, чтобы господин Умэдзаки оставил тайну своего отца в покое — по крайней мере, до окончания поездки.
Эти заботы принадлежат прошлому, хотел сказать ему Холмс, и мало что выйдет, если заниматься ими теперь. Вполне возможно, что у Мацуды были веские причины уехать из Японии, и не исключено, что благо семьи сыграло тут большую роль. Но при этом он сознавал, что господин Умэдзаки, у которого никогда по-настоящему не было отца, может ощущать ущербность. И что бы ни внушал себе этой ночью Холмс, он ни разу не сказал себе, что разыскания господина Умэдзаки не имеют смысла. Напротив, он всегда полагал, что загадки всякой жизни стоят неустанных дознаний, но в случае с Мацудой Холмсу было известно, что все свидетельства, которые он мог бы привести — если таковые взаправду имелись, — сгорели в камине много лет назад; воспоминание о спаленных дневниках доктора Ватсона овладело им, замедлило работу его ума, и вскоре ему уже ничего больше не представлялось. И ветра он больше не слышал — хотя и лежал на кровати без сна, а тот неистовствовал на улицах и трепал бумажные окна.
— Это я должен просить прощения, — сказал Холмс за завтраком и через стол похлопал господина Умэдзаки по руке. — Из-за этой погоды я плохо провел ночь и не слишком хорошо себя чувствую.
Господин Умэдзаки кивнул, по-прежнему держа голову опущенной.
— Просто я волновался. Мне показалось, что вы кричите во сне — жуткий звук.
— Конечно, — приободряя его, сказал Холмс. — Знаете, я как-то бродил по болотам, где из-за ветра создавалось отчетливое впечатление, что кто-то вопит — похоже было на далекий крик или стон, едва ли не на зов на помощь. Буря может легко заморочить вам голову; мне морочила, поверьте. — Улыбаясь, он убрал руку и опустил пальцы в миску с огурцом.
— По-вашему, я ошибся?
— Это возможно, разве нет?
— Да, — сказал господин Умэдзаки, с облегчением поднимая голову. — Пожалуй, возможно.
— Прекрасно, — сказал Холмс с огуречным кружочком во рту. — Тогда кончаем с этим. Начнем день наново? И как мы проведем утро — снова прогуляемся по взморью? Или обратимся к цели нашего приезда — поиску неуловимого зантоксилума?
Но господин Умэдзаки выглядел растерянным. Сколько раз они говорили о том, что привело Холмса в Японию (стремление отведать блюд из зантоксилума и наблюдать кустарник в естественной среде), обсуждали соответствующий этим намерениям маршрут — который и привел их в простую идзакаю у моря (японский паб, догадался Холмс, оказавшись внутри)?
Когда они вошли в идзакаю , там закипал котел, жена хозяина резала свежие листья зантоксилума; посетители подняли на них глаза — иные с опаской, — отвлекшись от пива и саке. Так сколько же раз с приезда Холмса господин Умэдзаки говорил о подаваемом в этой идзакае особом пироге, где в тесто вмешены тертые жареные плоды и семена зантоксилума? И сколько раз они ссылались на письма, которые писали друг другу на протяжении нескольких лет, где речь неизменно шла об их общем интересе к этому медленно растущему в дюнах, возможно продлевающему жизнь кустарнику (питаемому солеными брызгами, ярким солнцем и сухими ветрами)? Как будто не единожды.
В идзакае пахло перцем и рыбой, они сели за столик и стали пить чай, слушая бурные разговоры вокруг них.
— Те двое — рыбаки, — сказал господин Умэдзаки. — Они спорят из-за женщины.
Читать дальше